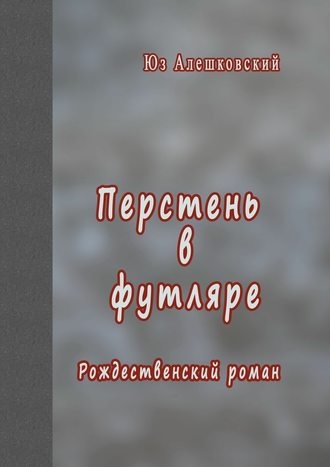
Полная версия
Перстень в футляре. Рождественский роман
Видимо, в состоянии босяцкой беспечности или в душке сопротивления самой божественной идее благообразия всего сущего пребывали многие другие опустившиеся советские изделия и предметы. Опустились они до этих состояний и настроений исключительно в знак протеста против бездарного разрушения переделывателями мира естественного порядка вещей.
За неимением лучшего Гелию поневоле приходилось приобретать всякую вещественную шалаву в агонизирующем магазине «Тысяча мелочей».
Ему порою казалось, что, например, купленная настольная лампа разгильдяйски изощренно довела себя до такой мазохистской самоуниженности, а людей, ее изготовлявших, до такой исступленной к ней ненависти, что общее внешнее уродство этого предмета, злобная его неприязнь к источникам питания электротоком да к физическому чуду горения лампочки, то есть явное презрение предмета к единственному своему назначению, могли быть внятно истолкованы лишь в категориях вредительского заговора исходного вещества уродливого этого монстра против знака качества государства.
Порою Гелию думалось, что, может быть, действительно существуют где-то там в преобширной невидимости микромира эти самые платоновские эйдосы – идеи всех вещей, и вот взяли, да и скосорылились от обиды на советскую власть эти самые идеи. А от одного только этого их скосорыленного вида, скажем, бумажник советский выглядит так, словно создан он не для денег и документов, а для мокроты Суслова, Черненко и других кашляющих кремлевских кощеев. Глубокая же столовая тарелка представляется вашему удрученному взгляду, как ночной горшок, неровно сплющенный по какому-то унылому производственному недоразумению или из-за давления сверху Госплана… Вполне возможно, на большинстве производимых изделий просто не мог не отразиться весь бред многолетнего общественного нашего безумия – так что, скажем, калоша или женская туфля предъявляют вам при первом же взгляде, брошенном на эти предметы первой исторической необходимости, не сущностные свои и целесообразные черты, а скорей уж какие-то фантасмагорические маски, наброшенные на замечательные идеи косорылой мужской калоши и многострадальной женской туфли.
Так что дурацким нашим вождям, трезво подумалось однажды вовсе не глупому Гелию, очумевшим от непостижимых вспышек коллективного сопротивления своему режиму некоторых веществ и изделий, следовало бы судить в двадцатые и тридцатые годы не вредителей и не козлов отпущения. Судить следовало прямо все эти платоновские эйдосы и природные вещества, принимавшие еще в зачаточных проектах вредительские формы чахоточных заводов, дохлых шахт, стратостатов «Красный Даун», парализованных ледоходов, вездеходов «Паркинсон», разорительных каналов, самоубийственных ГЭС, паровозов, сходящих с дистрофичных рельс, велосипедов имени Альцгеймера и так далее… Проморгали, товарищи… Надо было всем этим ленинско-сталинским дегенератам довести дело практического богоборчества до победного конца и насильственно большевизировать враждебное природное окружение с тем, чтобы ни один, понимаете, сраный атом никогда уже не смел посягать на священные принципы демократического централизма в области стандарта качества. Тогда бы туалетная бумага не соседствовала с мясом в адской колбасе нынешних апокалипсических времен. Да и трико дамские не натирали бы нежные промежности бедных наших женщин так, что тик у них появляется на милых лицах от усилий по поддержанию внешне грациозного вида… Впрочем, все советское – значит отличное от нормального, и тут уж ни хрена не поделаешь с этой дерзкой загадкой природы…
Неужели, подумалось однажды Гелию в ужасе некоторого прозрения, неодушевленные вещества действительно сумели, как-то обфинтив ЧК и дьявольски хитрющего Ильича, отреагировать в далеком Октябре на внезапное отлучение обывателя от его частнособственнических, благородных с ними отношений?
Не поэтому ли поганенькая какая-нибудь туалетная бумажонка в учрежденческом сортире – ничтожней которой и одновременно полезней нет изделия на белом свете – просто умоляет тебя немного отныкать ее от рулона, унести отсюда к чертовой матери домой и превратить хоть на время из собственности социалистической в личную твою собственность, если уж тебе так совестно шлепнуть весь рулон целиком. Но ты превозмогаешь типично советское, пошленькое искушение, сумев все же как-то соразмерить свою справочную нужду в дефицитной туалетной бумажонке с нуждою в ней твоих коллег и сослуживцев, не всегда, надо сказать, отвечавших тебе столь же старомодной деликатностью и благородством сопереживания твоих гигиенических движений.
Неужели смогли вещи внушить поголовно всем обывателям, что одна шестая часть света начала в Октябре угрюмо необратимое движение к тем роковым временам, когда, скажем, мужские кальсоны и дамские лифчики не то что тошно будет носить, но они вообще исчезнут однажды, как и прочий ширпотреб, из поля зрения поколений?
Исчезнут, пропадут, уйдут в хитромудрое подполье, начнут набивать себе цену, а потому-то все теперь позволено. Казенное имущество не грех безбожно расхищать, превращая в собственное и безрассудно обгоняя темпами расхищения темпы воспроизведения всего сладострастно расхищенного… Так что же Горбачев этот без толку по воде бьет хвостом, поднимая вокруг тучи всевозможных бесов, когда необходимо в экстренном порядке вернуть обществу людей собственность и свободу, насильно отнятые у них в семнадцатом, чтобы не развалились остатки нашего дома до совсем уже помпейского состояния!… Эх, Время, Время, до чего ж дозволило ты нам довести самих себя, что в такой вот критический момент под руками у тебя и у нас не оказалось деятеля порешительней и подальновидней!… В общем, подумав однажды о плодах такого вот развитого заговора обывателей и вещей в масштабах всего нашего псевдосоциалистического государства – заговора, целью которого, безусловно, являлся тотальный дефицит поголовно всех товаров, вкупе с посрамлением мистически всесильного Госплана, – и помножив плоды эти на долгие годы борьбы, побед и силу нарастания неумолимой энтропии в казенной торговой сети, Гелий ужаснулся близости неминуемого краха всей Системы, а может быть, даже и всей Империи.
13
Он ее поминал уже несколько месяцев со странным чувством все того же спортивного боления за нее и одновременно с полнейшим равнодушием к судьбе советского монстра.
Вот о нем он и думал по дороге к НН, решив в ближайшее же время плюнуть раз и навсегда и на него, и на всю эту непотребную туфту современности. Харкнуть с гадливостью, тайно набравшейся в душе за все эти похабные годы, и вообще уйти с головой в тихую частную жизнь. «Благо, средств для этого вполне хватит после сдачи за бугром изделия и получения моей доли в „зелени“… да, сволочь бесовская, в „зелени“…»
Предчувствие чего-то такого небывалого и совершенно чудесного, что должно случиться с ним и с НН именно сегодня, все нарастало радостно в его душе и нарастало. И чтобы умерить странное душевное волнение, которого он давно уже не испытывал в своей тоскливой жизни, Гелий специально заставил себя думать о конечном смраде советской истории.
Обычно мысли такого рода даже пикнуть не смели, даже не смели заявить о своем существовании, привычно ютясь в каких-то там затхлых чуланчиках мозга. Хотя в том, что судьбе родной страны, точно так же, как его собственной судьбе, существенно поднагадила на важном жизненном повороте нечистая сила, он с некоторых пор нисколько не сомневался.
«Монстр наш советский, конечно, ухитрился пропить, прожрать, расхитить и изуродовать почти все отныканное им у царской Империи и имперского общества, но, что там ни говори, а все гости были в гости к нам… сравнительный царил на улицах порядок… президент США одной ногой стоял в Белом доме, а другой торчал в атомном бомбоубежище… гений Габриэля Гарсия Маркеса считал нашенского монстра, пусть даже по неимоверной своей глупости, но, как бы то ни было, путеводным светочем равенства и мировым балансиром социальной справедливости… Грэм Грин, черт возьми, на что уж умный господин – и то на моих глазах ссал банкетным кипятком в люстру Большого Георгиевского зала, ибо в волшебном блеске хрустальных кристаллин мерещились ему образы земного рая или какого-то своего, заветного и глубоко личного католического идеала… а ведь ни Маркеса, ни Грина… опять тут зелененькая мразь мельтешить начинает… брысь, сучка, брысь… ну никуда от этой пакости не деться!… ну наглые твари!… не завербовывал Международный отдел ЦК ни Грина, ни Маркеса для публично почтительного отношения к советскому монстру и коленопреклоненного вылизывания его красного гнойного зада».
С этими неприятными поминальными мыслями Гелий поднялся на нужный этаж. За миг до того, как нажать на кнопку звонка, мысли эти враз смыло порывом свежести, дивной переменой душевной погоды, а сердце вновь всколыхнуло сладостное волнение предчувствия чего-то такого небывалого, которое начисто перечеркнет все былое, и тогда… тогда… Он больше не мог оставаться наедине с этим, просто-таки взявшим его за грудки волнением. Позвонил.
14
Дверь ему открыла НН. Нежно уколотое духом хвои, в сладчайше грустное детство оступилось вдруг сердце, окончательно освободившись от сонма гражданских, малосущественных, оказывается, для интимной, то есть личной жизни пристрастий. В столовой блистала празднично наряженная ель. Теплою волной окатило Гелия прямо на пороге обворожительное начало «айне кляйне нахтмузик».
В этой музыке, кроме нее самой, его необычайно вдруг возбудила благородная приправа к ней дамской предупредительности и предельно искреннего, дружеского угождения, на которых, как он считал, порою не меньше, чем на сексе, утверждаются брачные настроения.
Ибо к любимой красоте и к близости с женою можно, говорят, с годами спокойно привыкнуть, а благодарность к ней за истинность ее знания тебя, как себя, – всегда в сожительстве долгом нова и потрясающе неожиданна. Так что волна страсти охватывает, поговаривают редкие счастливцы, одного из супругов или их обоих из-за каких-то бытовых пустяков, незаметных постороннему глазу, и в самых неудобных для этого местах: за столом в ресторане, в самолете, в музее, на улице – в любой, одним словом, точке пространства их общей жизни.
У него сладчайше и нетерпеливо заныло сердце. Вспомнил, самовозбуждаясь, одну из премилых шуток НН: «Брак – это чувство нахождения в полной твоей собственности того, чего у тебя нет». Поставил все принесенные яства на пол.
«Сегодня… сегодня… это должно случиться сегодня, сколько можно тянуть? До разрыва?»
Радостная хозяйка чмокнула гостя в щеку и сразу же отстранилась от него, словно его тут и не было, – нанести последние штрихи на свои кухонные художества.
Что там голливудская красота и открыточная стройность фигур по сравнению с редчайшей в наши дни женственностью, которой веяло от телодвижений ее и каждого жеста! А от запястья руки, игриво сбросившей на пол шапку Гелия, пахло… тестом поспевающим пахло от милого запястья и обещанием умопомрачительного расстегая, во всех возможных смыслах этого обворожительного слова.
– От каких это попов такой продуктовый анти-икра-виат? – смеясь, сострила НН.
– «Попов» – фамилия русского американца, короля тамошней водяры, – ответил Гелий, вздрогнув от дурного предчувствия, которое, однако, не в силах было омрачить его взволнованного настроения.
Хозяйка между тем оживляла хлопчиком-укропчиком, старушкой-петрушкой картину зимнего интимного застолья. Гелий врезал с морозца полстакана виски и, пожевав балычка с калачиком, по-мальчишески пообщался с елкой.
И вдруг увидел изумрудного папье-машистого чертика, качавшегося на золотом полумесяце. Снял его тайком с елки, бросил на пол и забил носком туфли под диван. Раздражительно осмотрелся. Иной нечисти вроде бы нигде больше не присутствовало. Но зная, что крестное знамение неимоверно ее бесит, взял да и на всякий случай злорадно перекрестил пространство помещения. Перекрестил с таким садистическим аппетитом, с каким принимается за работу палач, в отпуске по ней изголодавшийся.
Затем, предвкушая дивный выпивон с закусоном, беседу и то, ради чего он сюда сегодня явился, засмотрелся на НН.
Мозаичность ее генов вызывала во внешне интересном, но вяловато похотливом Гелии необычное возбуждение ранее незнакомого чувства. Во всем холеном теле НН Гелий почувствовал замечательно несокрушимую имперскую цельность. Вообще, приглядываясь к НН, он почему-то вновь неуправляемо переживал боление за сверхдержав-ность «первого в мире светоча коммунизма» и даже за былые ужасные фиглярничания староплощадных клоунов на грязной международной арене.
Иногда они, после всего этого, мило разглядывали в постельке родословное древо НН, составленное шустрыми магами одного кооперативчика «Корвет», что означало корни – ветви.
Так вот, в теле НН представительствовали минимум пара дюжин национальных составляющих нашей Империи. Причем и в своенравном душевном орнаменте подруги Гелия, и в роскошном ее теле чьих только не было экзотических генов, уважительно прослеживаемых по линиям самых далеких, не говоря уж о самых близких, предках!
Немец, цыганка, татарин, грузин, узбечка, литовец, запорожец, таджичка, китаянка, снова немка, азербайджанка, армянин, венгр – всех дивных, разноплеменных частей поистине не перечислить.
Но то, что не представительствовало в драгоценном и редчайшем этом живом наборе ни одной еврейской прожилочки, казалось Гелию странной, анекдотически юдофобской загадкой истории этого рода.
А уж то, что на шикарном родословном древе этой дамы – вообще непостижимым каким-то образом – не нашлось ни ветви русской, ни случайного сучка, то, что смогло все это случиться в наше время на, так сказать, определенном совокупительном имперском пространстве, – казалось Гелию скрытой русофобией, как принято нынче выражаться в расхристанных толпах якобы затравленных псевдопатриотов, из-за бессмысленной, видимо, зависти решивших «догнать-перегнать-побить мировой рекорд» униженности, тоски и обиды еврейского народа – народа, веками действительно гонимого.
«До чего же не величественно, – возвратился Гелий к своим навязчивым мыслям, – подыхает грандиозная Империя, до чего же пошло врезает она дуба! Всякая бывшепартийная шобла самостийно поднимает чубатые головы. Украина сама загоняет шевелюру в петлюру… Ватикан отхряпал у нас жирного угря Литвы, и наглеют на Трубном мимозы кавказского пленника… Вообще весь Кавказ тикает от нас со скоростью триста Шамиль в час… вся и все просираем на каждом шагу, у Времени в долгу… Татары решили отыграться на бегу за мощный удар Донского по монгольскому игу… Глядишь – завтра Еврейская автономная область выкажет Центру суверенно обрезанную фигу… Спрямленно-раскурчавленная, одним словом, реактивами изнанка сторожевого тулупа… Бездарное, срамотное банкротство… Не история, а полная партийноговна панама Беломорканала… скудно журчащий в арыке арала суэц… иссык-куль задристанного гуд-байкала – и ничего более… Нет, чтобы, понимаете, рухнуть, подобно эллинам или империи Римской, под звук обвальный античных руин, каждый кусочек которых станет со временем дороже золота!… Что от тебя останется народам и ихним музеям, дебилоголовая ты моя Империя?… Макеты маршальско-генеральских поселений и половых комсомольских саун, измызганных бездарной янаевской спермой?… Переходящие в маразм знамена?… Дебильная эстетика амбально огромных офицерских фуражек?… Оловянная миска лагерная, должно быть, дрожавшая в руках каторжника несчастного, когда выскребал он ложечкой на ее дне вопль души, отчаявшейся и добитой: „будьте вы все прокляты в веках, красные людоеды“? Дал я за нее пять долларов полуголодному старикану… на Лубянке, возле мемориального камня… Н-н-да-с… Я в тебя верил, Империя. Верил не в него, с маленькой буквы, а в тебя, сволочь. А теперь – провались ты пропадом в трупном своем политико-административном делении, ибо сама, сука, не живешь и другим народам жить не даешь, в том числе и русскому моему, в сардельку спивающемуся племени… Главное, судить некого. Кого судить-то, если все за всё в ответе, а отвечать некому?»
Гелий врезал еще рюмашку виски, ничем даже его не занюхав, – такой крепкодействующей и горькой была его досада на очевидную сверхнелепость этих семи десятков лет, насильно вбивавших в историческое сознание века мысль о своем первопроходческом, штурмовом величии.
«Н-н-да-с… провались… дай всем пожить частной жизнью… хватит лично мне вялогамлетически мямлить над ромашкою: люблю или не люблю?… Должно быть, наличие любви столь же доказуемо и равно столь же недоказуемо, как существование Господа Бога. Очень это странно, что, не веруя, можно замечательно существовать, а совместная жизнь с дамой без любви – намного хуже ада… И что бы там ни говорили, доказывать, что его нет и быть не может, гораздо интересней, чем бездоказательно долбить: есть, есть, есть! Подтверждений наших аксиом – на каждом шагу, а в пользу „небесных гипотез“ – во всяком случае, при анализе истории нашего похабного человеческого рода – что говорит? Ничто! Чистое, абсолютное Ничто… Между прочим, эта прелесть перед ним откровенно трепещет… тут надо быть начеку… надо просто любить, любить и любить, а не мямлить… это же подарок жизни несчастной моей судьбе… А вдруг?… Нет, бесовня любовь не дарит. Она ее, сволота, планомерно уничтожает… Люблю… люблю… Правильно сказано: не можешь поверить – рискни, ибо рискуют для того, чтобы поверить… и вообще, как бы это взять да подзалить извилины проклятого, вечно сомневающегося разума эпоксидной смолой, чтобы слегка оперся на нее, что ли, этот гамлетюга и серый стюдень… или опору хоть какую-нибудь втемяшить в него… это же сверхдико – когда разуму нашему буквально не на что опереться в изматывающих душу сомнениях и раздумьях… верить только потому, что это абсурдно? Извините, но сие не для меня… представляю, что за жена была бы у меня, если б я руководствовался этим безумным принципом в вопросах брака…»
Гелий отвлекся вдруг от всего такого неразрешимого, сглотнул слюнки и потер руки, поскольку не мог не обратить внимание на эллипс блюда с заливным язычком, откуда глазели на него ярко-желтые яичные очи с красивым разрезом голубоватых белков…
«Все – решено, сию минуту объяснюсь, предложу, то есть попрошу руки, и заделаем мы тут, господа, безо всяких этих ваших предохранений листочек любого пола, привьем себя – беспризорного русского – к этому восхитительному, загадочному интернационалу, чтобы дитя играло у гробового входа на гармошке „пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа“, точней говоря, „однозвучно звенит колокольчик, а до-о-рога-а-а“…»
И только он так подумал с залихватскою, с русской, счастливой тоской и решился, и уже встал с дивана, подзаведенный шотландской сивухой и гением народной песни, чтобы сначала на миг прильнуть губами к смуглой, еще не потерявшей загара ключице, на светлом донышке которой хранилась телесная прохлада даже при долгом стоянии НН у горячей плиты и в жарком пылу любовных дел, а уж потом… – как звякнул вдруг дверной звонок.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Скрыто по настоянию цензуры
2
Скрыто по настоянию цензуры.






