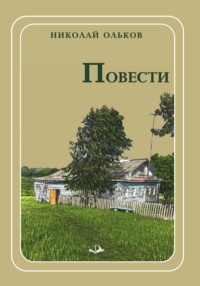Полная версия
Сказывания Ферапонта Андомина. Собрание сочинений. Том 1

Сказывания Ферапонта Андомина
Собрание сочинений. Том 1
Николай Максимович Ольков
© Николай Максимович Ольков, 2017
ISBN 978-5-4483-7047-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ФЕРАПОНТА АНДОМИНА СКАЗЫВАНЬЯ.
ПИСАНЫ ВНУКОМ ЕГО МАТВЕЕМ
ПИСЬМО УЧИТЕЛЬНИЦЫ, НАШЕДШЕЙ РУКОПИСЬ
Уважаемый товарищ писатель!
К вам обращается жительница села Онега Мария Петровна Андомина, я всю жизнь проработала в этом селе учительницей истории, замуж вышла за Мирона Трофимовича Андомина, и живем мы до сих пор в старом доме, построенном еще предком нашим Ферапонтом Несторовичем. Об этом я нашла запись в архивных бумагах в Тобольске. Как еще одно доказательство древности нашего дома – под полом нашли мы монету медную от 1789 года, видно, завалилась как-то, никто и не искал эту копейку. Прадед мужа моего Матвей Гордеич, как говорили, последние годы жил вне дома, в избушке на дворе, и объяснял это тем, что надо ему исполнить какую-то работу, для которой нужна тишина и сосредоточенность. Что это за работа, никто не знал, а умер прадед неожиданно, говорили, что внучка принесла ему кашу на ужин и молока, он покушал, и она посуду забрала, чтобы порядок был. А утром хватили – дедушка уж холодный. Схоронили его на нашем кладбище, тут все Андомины лежат, от дедушки Иоанна и бабушки Федоры до последних умерших, и Нестор Иоаннович, и Ферапонт Несторович, и Гордей Ферапонтович, и автор этой рукописи Матвей Гордеич, все рядком с женами своими. Про работу, которую исполнял Матвей Гордеич, время от времени вспоминали, но что это за дело – так и не знали до нынешнего лета. А нынешним летом муж мой Мирон Трофимович решил разобрать избушку на дворе, в которой дедушка Матвей жил и работал, потому что она совсем обветшала, проще новую срубить. Когда стали убирать тесаные плахи с пола, рядом с печкой обнаружили, что плаха распилена и сделана крышка, а под той крышкой из железа скованная шкатулка, а в ней старая амбарная книга и большая стопа исписанных листов толстой старой бумаги. Писал Матвей Гордеич чернилами особыми, я такие записи видела в архивах в церковных книгах, потому весь текст читается хорошо и уверенно. Я знаю, что ваши предки тоже пришли из тех же мест, что и наши, даже село ваше Ольково у Матвея Гордеича упоминается. Высылаю вам копию, сделанную мною, потому что, поймите нас правильно, эта рукопись теперь наша семейная реликвия. Конечно, я переписала все в соответствии с правилами современного русского языка, у автора весь текст писан подряд, без точек и запятых. Все слова диалектные тоже оставлены. Наименование писания составил сам Матвей Гордеевич, потому я ничего менять не стала. Еще дедушка Матвей всякий день, когда делал записи, помечал в начале письма, но я даты указывать не стала, указала только последнюю. Я не знаю, сочтете ли вы нужным это публиковать, но для всех потомков вологодских переселенцев и для всех сибиряков это очень дорогие и милые сердцу сведенья.
Остаюсь ваша читательница Андомина М. П.с. Онега, 24 апреля 2013 год.Благословясь, принимаюсь за дело, вверенное мне дедом моим Ферапонтом Несторовичем, человеком твердой веры и большого ума, поручившим мне, недостойному, записать, насколько позволит грамота моя, его сказывания и свои присловия тоже.
Не стану темнить и откроюсь с первого разу: грамотой не обременен, потому как в приходской школе при церкви было три класса, ну, лучше три группы: младшая, средняя и старшая. Я в младшую отходил, счет познал, письмо, чтение в голос, а в среднюю не пошел, потому что дед Ферапонт Несторович, ему уж за сто лет было, он с родных вологодских земель малым отроком привезен, так вот он меня в завозню заманил и на полном сурьезе пригрозил:
– Не ходи в школу, Матвейка, там ребятишек станут кастрировать.
Я из-за угла подсматривал, когда приходил к нам коновал, и отец с дядьями выводили на растяжных вожжах жеребца, валили на пласт соломы и скручивали веревками. Коновал вынимал блескучий ножик, и я уже не глядел. Жеребца после того звали уже мерином, он долго тосковал в своем стойле, по неделе не ел и не пил, дед Ферапонт вздыхал и тоже с тоской сочувствовал:
– Лишили Карева единственной животной радости. Для какого рожна ему теперича жить? В кобыле не нуждатся, жеребяток не будет облизывать да мордой поправлять, ежели что не так. Мы теперь с ним в одной поре.
Я интересовался, как это, дед хмыкал в густую бороду и пробасил:
– Рано тебе знать, обожди, зачем не видишь, глазом не моргнешь – станешь, как Карько.
Помня, как жалобно кричал конь, я не хотел очутиться на его месте, и от школы отказался. Отец не неволил, тем и кончилось.
Теперь я и сам к Ферапонтовым годам подхожу, пожил, повоевал, потерпел немало. И вот единожды лежу в своей избушке, сын мне изладил, чтобы никто не мешал, ночь светлая, у меня оконце под ситцевой занавеской, месяц пялится заглянуть. Лежу и думаю: «Вот придет смерть, заберет и меня и память мою, и все, что я знаю со времен переселения, потому что дед Ферапонт изо всех внуков и правнуков меня отличал, рассказывал и приговаривал:
– Ты, Матюша, запоминай мои речи, другой тебе такого не откроет. А как накатит на тебя все это прошлое, ты и запишешь для потомства. Тезка твой Матвей с Господом бродил по Галилеям и Палестинам, а когда Христа распнули, Матвей написал, все что видел и слышал, за то Господь его призрел и отблагодарил. Книга эта, Библия зовется, у меня на божничке лежит, как умру, ты ее наследуй и изучи».
Как у десятилетнего парнишки завелась эта манера записывать в большой книжке с линейками, дед сказал, что это амбарная книга бывших торговых людей, записывать его сказывания – не дано мне знать, а вот писал, прятал от старших, потом и все другие события нашего села стал вносить кратко. Все ждал, когда же придет время это все изложить в приличной манере и на достойных листах. Да, годов семьдесят прошло, сыны дома поставили рядком, дочери в достойные семьи вышли, внуки и правнуки – все прошло. Жену свою Дарьюшку схоронил, сам сколотил домовину, сам место изобрал на могилках в ногах у деда Ферапонта, тут же и себе обозначил, благо что слободного места дивно еще. Когда сорок дней кончились, и душа Дарьюшки моей обрела покой, взялся я за тетрадки свои, просмотрел все и решил, что достойно. Должны все мои последыши знать, как развивалось на сибирской земле семя Андомино. Писано мною подряд, как дедушка Ферапонт диктовал, новой раз так завлекет писанье, что не вдруг угадашь, что не мои это речи, а дедушки, только вранья все едино нету и быть не могет, потому как правда.
Дед еще малым был, а запомнил, что переход великий начался в царствование Екатерины Второй, сохранялась в семье какая-то бумага от имени Государыни, что отец его Нестор Иоанович в Вологодской Вытегре у уездного начальника выправлял бумаги на переезд в Сибирь, и велел записать семейство как Андомины, в память о реке, на которой столько веков прожили. Река та Андома истекала из озера Крестенского, это я по буквицам записал, чтобы не соврать, и стремилася к Онежскому морю. Тут, на берегу, и было селенье наше Озерное Устье, стало быть, Андома втекала здесь в море. Рядом другие деревни, вот перечислены: Климова, Ларьково, Ольково. Дед говорил, что жили рыбой, ходили в Онежкое море на парусах, однако досыта не едали, хлеб на столе только по большим праздникам. И вот появился в тех местах зрелых лет человек, который по белому свету помыкал немало, и рассказал он мужикам про страну Сибирь, где сами хлеб сеют и кушают его, сколь душа примет. Что сенокосы богатимые, литовку не протащить, на тех травах скот нагуливает молоко и мясо, и опять все кушают без оглядки. Лапти показал тамошние, мяконькие, легкие, крепкие. Всю зиму мужики думали, а весной продали на ярманке в Вытегре, все, что можно, и тронулись. Были, надо думать, среди наших толковые люди, ежели в такую даль собрались полтора десятка семей из тех деревень.
Три года шли, по дороге и добрые люди помогали, и злые наскакивали, только переселенцы отчаянные были, за себя и своих детей души из разбойников вынимали. Без малого три тысячи верст от дома отошли, и подсказали опять же добрые люди, что ищет начальство охотников заселиться в местах отменных, но опасных, кыргызы налетали и даже казачьи заставы прогоняли.
Интересно обустраивалась наша Сибирь-матушка, доложу я вам, столь забавно, что в двух верстах друг от дружки выстроились две деревни, только не просто версты их разделяли, а Гора, считают ученые люди, что в старопрежние времена вся низина была залита водой, а нынешняя Гора была берегом. Только где другой берег – никто не знал, однако догадывались, что где-то должен быть, коли наш есть. Гора не сказать, что высокая, но, к предмету, напротив могилок без торможения задних тележных колес не спуститься, и много добрых коней, да и мужиков безалаберных тоже на том спуске пострадало. Пожадовал, воз нагрузил с избытком, или недоглядел, подгнил тормозной крюк или веревка попрела, а воз накатыват, под колесами аж земля дымится. И вдруг – нет тормоза, телега с возом на лошадь напират, той деваться некуда – в рысь, в галоп, но догонит телега, и покатились вместе в глубокий овраг, подминая молодые березки, только дикий крик убившейся лошади холодит душу обробевшего крестьянина.
На этих крутых склонах ребятишки любили зимой на санках кататься, потом лыжи наловчились ладить, как и вы теперь. Две березовых тесины с одного конца заострил, дождался субботы, когда баню топят, в котел с кипящей водой сунул тесины острыми концами и жди, когда дерево разомлеет, а потом под сарай. Здесь уже все приготовлено. Острые концы между двух бревен сарая просунул, а на другие подвесил гири пудовые. Постоят так пару дней, и лыжи готовы, осталось только ремешки из толстой кожи приколотить, чтобы пимы в эту петлю входили. Были и пологие склоны, тут без приключений.
Сначала пришли вологодские наши поселенцы, облюбовали место под горой. Да что там говорить, чудное место, просто райское. В память о своей далекой родине селение назвали Онегой, правда, при первой же ревизии переписчик воспротивился было столь мудреному названию, но подали ему немножко серебром, он и успокоился. А место ровное, как стол, с одного боку старица, с другого вторая, вода – пей – не напьёшься, вроде и солоновата, да нет, вдругорядь попробуешь – сластит. И для квасу, и для пива, и для солений всяких годна. Покосы на лугах – литовка вязнет, земли залежалой – сколь можешь, паши.
Потом пришли хохлы малорассейские, те на Гору поперлись, заманили их леса богатые. Оно и верно, лесов настоящих они и во сне не видели, а в то же время соображают: лес – он кормилец, он материалом обеспечит, грибом-ягодой. В ближних лесах три озера, войди в воду – караси в колени бьются. И покосы на лесных полянах не в пример луговым, травы во множестве незнакомые, но такое сено поспевает, хоть чай заваривай. Тоже жить можно.
Гора та изрезана логами да оврагами, один от другого тем отличаются, что в овраге все густо растет, и травы, и кустарники, и береза с осиной. Тут сморода и вишня, малина и ежевика, боярка и даже рябина красная, кормилица снегирей. А лог, как вдовец, гол, с первого взгляда страшноват, дикостью от него несет, суеверностью, нет в нем ничего, кроме камней и глины, и человек ни за что туда не пойдет без особой нужды. А самый знатный лог в этих местах – Лебкасный, или Лебкасник. Из каких глубин и по какой причине выперло наружу такую уйму лебкаса – никто не скажет. Вот рядом еще ложок, невзрачный, почему бы там не быть этому добру, а нету.
А какие крепкие березы росли по берегу Лебкасного лога, даже старики не помнят их молодыми, приголубили под своей сенью всяческую траву, какая не дает подползти к дереву паршивой тле, гибкой гусенице, да не всякая бабочка для продолжения рода сумеет полететь к шеренге берез. А трава такая: крапива прежде всего, потом визиль-ползунец, потом резучка, дальше ковыль-чистоплюй, уж он-то не позволит… Разные были суждения по происхождению могучего колка прямых и ровных дерев, от комля до вершинки полтора десятка саженей, и ни одной веточки, ни единого сучочка, только на макушке словно метелочка, чубчик, дескать, простите, если что не так, вот за чуб можно подергать.
Был такой разговор, что посадил эти березки каторжный народ, гнали пешим порядком большое число преступивших, и напади на конвой лихая хворь, так и валит с ног жаром и потом. Знающий человек среди колодников оказался, посоветовал весь провиант конвойный выкинуть, потому как подсунули подрядчики гнилье всякое, и в этих местах закупить новый корм, а пока подкрепление подвезут из ближней крепости, арестанты согласились в бега не ударяться, только дать им какую-нинабудь богоугодную работу. Начальник конвойный убоялся подвоха и предложил зайти в этот лог, из него выход один и охранять проще. А в порядке благого дела велел обсадить лог юными деревцами. Чем ямки рыли – сие неведомо, и как поливали первосаженцы – тоже никто не знат.
Вторая догадка побогаче будет на выдумку. Вроде жили в ближайшей глуши раскольники, лог этот они облюбовали потому, что лебкас очень даже украшал их дома и придавал чистоту. А когда власти стали их и здесь шевелить, подались бедные дальше в глубь сибирскую, а много чего из ранее привезенного, чтобы дорогу облегчить, в логу зарыли. И под каждой березкой, ими посаженной, непременно какое-то богатство сохраняется, потому и пущена молва, что березы эти особые, и рубить их нельзя ни при каких надобностях, за исключением того, что решит сход.
Никто из деревенских не обращал на эти березы никакого внимания, пока не начали разработки лебкаса на продажу в город. Дело это нехитрое, но и ума требует, потому что верхний слой засох и уже непригоден, надо его снимать и в сторону, вот тогда пойдет влажный лебкас. Мужик в яме роет и выдает наверх, а бабы «головы» лепят и на просушку выставляют. «Головы» в городе по хорошей цене шли, потому желающих в логу каждое лето добавлялось, рыть приходилось вглубь, там почти белый лебкас шел, пока в один день, да почти в одно время рухнули три шахты, и завалило мужиков. Пока сбежались, пока откопали, ребята уже никакие. Разом утянулись все из лога, бояться стали, и березы на его берегах зловещий смысл заимели. Вот вроде родные березки, а страх берет, и не всякий мужик в одиночку пойдет в лог, а чтобы срубить древо – да Боже тебя сохрани!
И только, когда церкву строили, батюшка облюбовал сей лес для полов. Мужики моршатся, но супротив не говорят. Ну, батюшка и без того эту историю знал. Собрал людей, повел, за версту еще запели, а прямо в логу молебен отслужили, и по сигналу ружейного выстрела пономарь ударил в колокола. С тем и приступили, разделывали, шкурили, и пополам кололи. Вот эти березы и лежат сейчас на полу в божьем храме. Пригодилась нечаянное подаренье незнакомых людей, мир их праху!
Весенние снеговые воды и от обильных дождей тоже вытекали мутноватым ручьём и заливали ближайший луг, отчего сделался почти непригодным для хозяйствования, зато птица всяческая польская плодилась тут во множестве. Весной ребятишки уходили сюда с раннего утра, и собирали утиные яйца корзинами. Но было строгое правило: одно яйцо в гнезде не трогать руками и оставлять, утка к нему еще сколь надо снесет, так природой заведено, и все до ниточки исполнялось, потому как никто не мог ослушаться старших. Через время уточка уводила свой выводок на чистые воды ближайших стариц: на Марай, на Арканово или Темное.
Ребятишки приходили глядеть на это переселение, с их появлением утки издавали треложный звук, и цыплята сбивались в кучки и прятались под ближайшей кочкой. А утица начинала ходить кругами, то подлетит, то сядет и пойдет хромой походкой, дескать, лови меня, я вот она, доступна. Гонять уток запрещалось, а трогать желтеньких пушистых утят тем паче, потому утки скоро успокаивались и условным криком выводили свое семейство.
Место это получило название Зыбуны, зыбкое было место, в иных точках вся поверхность ходила под ногами, раскачивалась, будто детская колыбель. Колыбель – это как-то по грамотному, у нас делали зыбки. Крепкую деревянную рамку обтягивали толстой холстиной, и чтоб чуть провисала. К потолочной матице на самоковочные гвозди приколачивали обработанную и испытанную березовую вершинку, на второй конец вешали зыбку. Зыбку из страха еще одной веревкой привязывали к большому гвоздю в матице, вдруг лопнет вершинка, дак чтобы ребенок не убился. Потом, когда железо пошло, на крепких веревках крепили с четырех углов эту раму к металлической пружине, пружину к потолочной матице на надежный крюк, но для страховки внутри пружины пропускали еще одну веревку к узлу тех четырех. Это на случай, если пружина лопнет, тогда люлька на запасной удержится. В такой зыбке младенца нянька, мать либо бабушка укачивали, не бросая работы, от зыбки петельку делали к ноге и ногой покачивали, а руки свободны. Вот как было придумано хитро и просто, а от люльки той и болотистому месту, гнилому и опасному, дали название Зыбуны.
Ну, знамо дело, не каждый год смачный, новой раз такая сушь прижмет, что воробью напиться негде, выйдешь на крылечко в тени кваску попить, он прямо на кромку ковшика садится, до того осторожность потеряет и человеку доверится. Тогда Зыбуны выручали всю деревню. Трава там напреет такая, что как взмах, так копна, а если хорошо помахать, к обеду на стог соберется. Потом примутся эти травы в стога метать. Сначала в копны сложат, потом копны к одному месту стаскают волокушей, собранной из крепких веток тальника, и с первого навильника начинают сено утаптывать, и так по кругу: положит хозяин пласт, хозяйка ногой заступит, тот вилы выдернет, а она ходит по кругу, это называлось уминать и вершить стог. Пройдет полдня, а уже последний навильник забрасыват мужик на маковку стожка, следом подает сплетенные в вершинках попарно толстые вицы, баба разводит их на четыре стороны света, это чтобы ветром сено не раздувало. Муж кинет ей веревку, сам на противоположную сторону уходит и кричит, чтоб спускалась. Бабы тоже всякие бывают, иная полстога может за собой утащить, потому аккуратность требуется: мужик веревку натянул, а жена на животе тихонько сползает. Потом граблями очесывают стожок, чтобы дождик скатывался, не сгноил сенишко.
А деревня наша чисто вологодские родные кружева повторила, строчкой домиков прошлась вдоль узенькой старицы, которую назвали Сухарюшкой, потому что первый дом поставил Никитка Сухарев, дома от речки отодвинулись, но лицом к ней, улочка получилась однобокая. Дальше стали нарезать улочки широкие, и уже строили с двух сторон, чтоб дом против дома, окно в окно, но пришлось огибать большую старицу, и такие повороты получались, то в одну сторону, то в другую метнутся. А поскольку такой рисунок заложили, то и другие улицы его срисовывали, и получилась вязь из улиц и переулков. Только в деревне не заблудишься, каждый друг друга знат-величат по отчеству, если годами достоин, а иногда и совсем молодого человека могут навеличивать за особые заслуги, к примеру, кузнец отменный или по скотине специалист. Были такие люди, грамоты не знали, а болезнь скотскую видели: когда брюхо специальной, из города привезенной иголкой проткнет, чтобы дурной воздух выпустить, вдругорядь заставит ковшик самогонки быку влить, чаще коровам помогал растелиться, по локоть руки в утробе, ножки телку непослушному развернет, тот и выпал из мамки.
Дома ставили, как уже в Сибири заведено, нагляделись: стало быть, сруб рубится из свежих берез, сразу вкрест, чтоб изба, горница, сенки теплые и казенка, кладовка по-другому. В избе и в горнице внутреннюю сторону бревна стесывают аккуратно, и стена выходит ровная, любо посмотреть. А потом ее шлифуют каленым кирпичом, а уж когда живут, то к большим праздникам, к Паске и Покрову, стены моют и скоблят ножом до желтизны. Сруб ставят в три клетки, но это не на месте, а в стороне, на полянке или за огородом, только потом переносят бревна, чтобы класть на мох. Мох загодя дерут на болотах, на паре лодок выплывают и специальными граблями собирают мох со дна, собирают в лодку, вывозят на берег и перегружают на телеги. Пока день работают, мох всю воду спустит, но дома все равно раскладывают ровным слоем в тени, чтобы не пересыхал, а потом соберут в общую кучу. Мох не экономят, пазы в бревнах вырубают широкие и глубокие, мох на нижнее бревно укладывают ровненько и толстым слоем. Бабы следом подбивают свисающий мох и добавляю, где в паз палец лезет.
Когда лес привезут, ребятишки топориком берестечко разрубят и начинают кору драть, а потом коринку на излом, потянешь, и белая сладкая пенка сама в рот просится. А под коринкой на древе сок застывший, ножиком его скоблят и едят. Шибко сладко, только мужики не давали бревна оголять, просохшую березу топор не берет.
Когда сруб устоится окончательно, мох покажет прокладку между рядами толщиной в мизинец, и того довольно, чтобы ни ветер, ни мороз не пробил стену. Вот с крышей не все сразу выходило, как дед говорил. В Вологодских-то краях дома крыли тесом, это когда берут бревно сухое и чистое, устраивают на подставах и вбивают железный клин, чтобы кромку отколоть. Потом и дальше, уже доска выходит, а тесина – потому что тесаная. Местные натакали крыть пластом. Лопату насаживают на горбатый черенок, выбирают на выгоне ровное место, поросшее густой щетиной множества трав мелких, стало быть, крепко корневищами схвачен верхний слой. И вырубают по кругу пласт дернины и грунта на нем бугорком. Крышу обшивают густо подскалом, толстым тальником, и на него уже укладывают рядками земляные пласты, их могли и просто дерном называть. Ровным верхним местом вниз, одна лепеха к другой опять же густо. Когда все закончат, крыша в мелких бугорках, красиво, а через неделю зазеленела крыша, и дом, как в сказке, по первости наши дивились, потом привыкли. Но все равно вернулись к тесаным плахам, научились и березу разделывать, дома под тесом, дождичком не пробьет и баско смотрится.
Были любители мазать стены, ну, это только называют, что мазать, а на самом деле на все внутренние стены вкрест набивают таловые ровные прутики, а потом на ограде яму копают и глиной красной заполняют, туда же рубят прошлых урожаев солому, мягкую, подопревшую, водой заливают, и ходят бабы по кругу, месят глину, подоткнув юбки под опушки. Молодых девок туда не загонишь, стыдятся заголяться, ноги показывать, хотя и у баб подержанных ноги бывали смущающие. Потом глину носилками подают в дом, а там уж горстями кидают ее в стену и аж крякают от усилия. Набросают так слой, какой надо, начнут растирать, ровнять, добавлять. Так по всему дому, особенно надо понадежней на стене, которая на улицу выходит, тут тепло надо ловить. Такие работы одному не под силу, всей родней собирались, друзья-товарищи помогали, потому называлась помочь. А когда дом мазать – собирали супрядку. Вот поди ж ты, супрядка прежде была, когда бабы и девки вместе собирались и пряли, а потом гляди, куда слово перескочило!
Сушили глину не просто так, все окна и двери закрывали, чтобы спокойно сохло, не рвало, да и соломка для того же. При доброй погоде может за неделю высохнуть, тогда опять глину разводят, только пожиже, называли затиранием. А уж потом дело до лебкаса доходит или до белой глины, какая в логу под хохлятской деревней Паленкой. Паленка – от того, что сгорала на третьем году, сперва звали Ивановкой, а как погорели, переписали на Паленку, так землеустроитель тогдашний посоветовал. Бывал я и в беленых домах, бывал и с тесаными стенами, и там и там все от хозяйки идет, какая чистоту блюдет, у той и славно, а если баба рохля, то ей хоть крась, хоть лебкасом убелай – запустит, загадит, до греха доведет. Был одно время порядок, когда обчество имело право пройти и проверить, а каково же чисто или не особо ты живешь, это еще дед Ферапонт сказывал, потому что от нечистоплотности образовывались всяческие насекомые вредные, а уж от них укушенный болел и даже помирал. Потому приходили и такими разными словами стыдили и гадили, что хозяин тут же бабу свою на куртал водил, ну, бил, проще сказать. И это блюлось долго, потом утратилось. А напрасно, я и теперича знаю, у какой хозяйки каково в кутнем углу. Вот ежели она принародно в подол юбки сморкатся, может порядок в дому быть? Никогда не будет, потому что то и другое друг от дружки зависят.
С первых времен старики стали все постройки во дворе высокими заплотами обносить. Это для чего? Чтобы злой человек либо разбойник не вдруг в ограду попал. Не то сказал, перепиши! В самые-то первые времена заборы ставили из толстых бревен, а верхний конец чтобы заточен был до иголки, потом стали верхушки железом обшивать. Со временем поспокойней стало, и перешли к заплотам. Ну, самое простое дело: ставят столбы толстые, повдоль пазы широкие выбирают, в эти пазы и загоняют бревна, подгоняют, как будто стены рубят, так же паз выбирают, до тонкости, чтоб красиво и надежно. Высота одна: в сажень, чтобы человек не допрыгнул.