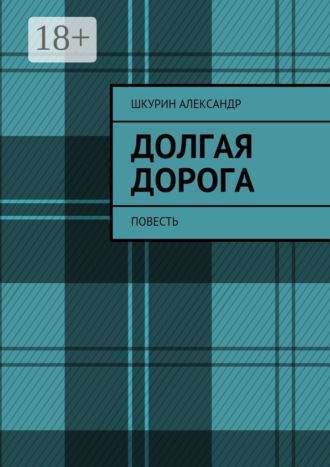
Полная версия
Долгая дорога. Повесть
Втянуть бы в себя этот аромат, чтобы забыть о милицейских и о грязных жестких нарах, на которых теперь приходится отлеживать бока. Эх, колеса, докатили К. до каталажки, лучше бы укатили его куда-нибудь далеко, на край земли, но проклятые колеса не вняли молитвам К.
К. тяжело вздохнул, вслед за ним тяжело вздохнул автор и почему-то некстати вспомнил, что одеколон «Aramis» был выпущен парфюмером Бернардом Шантом в 1966 году.
За время ареста К. прошел через многие милицейские руки. Особенно К. запомнился один, который вкрадчивым голосом совершенно неожиданно предложил ему покаяться, облегчить душу, стать чистым перед законом, прозрачно намекнув, что в этом случае поможет скостить срок, но с одной маленькой оговоркой, – взять на себя в качестве довеска, для ровного счета, еще пару-тройку нераскрытых преступлений, уж очень эти преступления по почерку походили на дела К. Он долго искушал К., рисуя перед ним манящие перспективы, пара-тройка чужих дел такой пустяк, зато К. потом с просветленным сердцем может вернуться в свободную жизнь. К. сначала воодушевился, услышав о возможности уменьшения срока, но повесить на себя чужие дела ему почему-то не захотелось. Тот милицейский, что сначала сладко, как канарейка, заливался перед ним, после отказа поскучнел и закончил весьма банально, как и другие, обещанием долгой и жесткой отсидки.
На первом допросе этот следователь ничего не обещал К., он сухо задавал вопросы и записывал ответы на них. В конце допроса попросил прочесть его показания и расписаться под ними. По вопросам следователя К. понял, что тот хорошо знает о его похождениях и вытрясет из него все, до последней мелочи, как бы К. не хитрил и не пытался переложить на других свои, как он про себя называл, «мелкие шалости». К. понял, что ему будет сложно противостоять этому следователю.
Утром К. дернули на второй допрос. Постовой привел его в следственную комнату. К. привычно сел табуретку, следователь привычно достал из коричневого портфеля папку из серого рыхлого картона с наклеенным на обложке белым прямоугольником, на котором крупным шрифтом было написано «Уголовное дело по обвинению…», эту папку следователь аккуратно положил на стол, достал из портфеля шариковые ручки, чистые листы бумаги и сел на табуретку возле стола.
Начался новый допрос. Следователь был въедливым, он спрашивал о таких мелочах, о которых К. забыл или же с удовольствием бы постарался бы не вспомнить. Теперь его «шалости» следователь оценивал со стороны уголовного кодекса, но К., у которого это была уже вторая «ходка», знал, что одно, что два, или все его похождения (точное количество их он не помнил, не считал), тянут на одну статью и больше указанного в ней срока он не получит. С одной стороны это радовало его душу, но К. не собирался сам обо всем рассказывать следователю, благодарю покорно, найдите другого глупца, он не из их категории, однако тяжелые ночи на нарах измучили его мозг, постепенно лишая возможности сопротивляться.
Бесконечные часы, которые К. был вынужден проводить на нарах с вонючими скотами, окружающими его в камере, неожиданно пробудили в нем огромную жажду по хорошей беседе с умным человеком. До ареста в этом не было нужды, жизнь была плотно наполнена ночными эскападами, легкими деньгами от них, которые также легко тратились на модные тряпки, дискотеки, выпивки и девочек. Среди этих девочек почему-то больше других запомнилась одна пэтеушница, как ее там фамилия, – э-э-э, кажется Щапова, нет, Шагина, вспомнил, – Верещагина! С ней было хорошо и легко, и от воспоминания о ней вдруг повеяло чем-то приятным и теплым, почти родным.
Сейчас, когда все резко изменилось, непривычно тяжелые думы стали одолевать К., но никто из допрашивавших его не спешил пролить на него живительный дождь умных бесед. Все допросы были конкретно-предметными: где был такого-то числа, с какой машины снял и сколько колес, кому продал, цену, можешь их описать-показать, кто был с тобою, как распределялись роли между соучастниками.
Больше его ни о чем другом не спрашивали, и, едва он заканчивал в очередной раз рассказывать, как о нем тут же забывали, как о ненужной вещи, и сразу отправляли в камеру.
К. стал чувствовать, что он достиг той грани, после которой, еще чуть-чуть, и у него начнется истерика.
Когда же этот следователь неожиданно попросил его вспомнить о прошлом, К. насторожился, его просветили в камере, что откровенность со следователем ему ни к чему, следователь заработает себе очередную звездочку на погоны, а он, соответственно, или лишнюю статью, или лишний год отсидки. Настороженность так явно читалась на лице К., что следователь просто сказал, что хочет помочь ему. К. вспомнились данайцы, дары приносящие, он замкнулся в себе и только тоскливо произнес: «помочь мне?».
Следователь кивнул головой. К. горько усмехнулся: «разве можно помочь здесь?» и театрально-фальшивым жестом раскинул руки в стороны, словно призывая голые серые стены, видевших многих, хороших и плохих, в свидетели.
– Вам нужна только свобода, – то ли утверждая, то ли предполагая, сказал следователь.
К. судорожно кивнул головой и провел кончиком языка по внезапно пересохшим губам. Слово-то, какое, свобода! Как солнечный зайчик, – греет и не поймать его.
– Сразу говорю, свободу не обещаю, – огорошил К. следователь. – Для вас быть здесь – это благо.
– Что это за благо, – вскинулся К.
– Катарсис3, – произнес следователь смутно знакомое слово, К. попытался вспомнить его значение, но измученный мозг не хотел ему помочь, значение слова ускользало от него, и К. обидчиво сказал:
– Неужели я должен гнить в этом дерьме?
– Что же прикажете делать с вами, чтобы вы не принялись за старое?
– Поверить мне, поверить!
– Один раз уже поверили.
– Один раз не считается, поверьте еще раз!
– Что же надо будет делать?
– Перевоспитывать, – буркнул К.
– Как?
– Это ваша забота.
– Другого рецепта не придумали, надо просто не нарушать закон.
– Так пела моя бабушка, – с издевкой подхватил К., – и померла как нищая церковная крыса. Даже в гроб не в чем было положить. Другие не попадаются, живут, жиреют и хвастаются, как умеют ловчить, плюют на ваш закон и не попадаются.
– Другие не попадаются, а ты – попался, – задумчиво возразил следователь, и сразу же задал вроде бы наивный вопрос:
– Разве лучше украсть несколько тысяч и провести долгие годы в колонии?
– Тогда что есть у вас? – вроде бы наивно удивился К.
Следователь помолчал и ответил:
– Свобода и работа.
– Что же это за свобода и работа, если я поневоле, а вы по воле, сидим здесь вдвоем и дышим этой гадостью? Чем ваша свобода лучше моей несвободы?
Хорошо он поддел меня, подумал следователь, ему не откажешь в проницательности. Слова о долге будут явно звучать фальшиво и неискренне. Следователь решил сделать вид, что не понял сути вопроса К., иначе этот разговор мог завести слишком далеко. Придется признать, что следственная работа была не столь романтична, как ее изображали в книгах и в фильмах, когда следователь с усталыми, но добрыми глазами изобличает хитроумного преступника. На поверку следственная работа оказалась полной грязи, и иногда, когда он выдыхался, хотелось самому себе, как на духу, как на исповеди, признаться, что он по своей воле обрек себя на эту тяжелую работу.
Иногда он ставил себя в тупик простым вопросом: кто же больше свободен, – тот, кто сидит напротив него, – так для сидельца это всего лишь краткий и не самый удачный эпизод в ярком калейдоскопе его жизни. Он же цепями образования, однажды избранной специальности, деньгами за нее сам приковал себя к этому столу, и осужден навечно копаться в чужой грязи. Эта грязь засосала его, как питанские болота, и если он сумеет выбраться из них, никогда не сможет отмыть ноги от этой грязи.
Подчас следователь мечтал плюнуть и уйти, прекратить копаться в чужих судьбах, но ничего другого делать он не умел, и поэтому, проклиная все на свете, продолжал, как упрямый вол, тянуть это ярмо, утешая себя тем, что кто-то должен делать эту работу.
Лучше спрятаться, как улитка в раковину, не стоит перед К. выставлять напоказ свои сомнения. Он, черт возьми, слуга закона и защищает честных людей от преступников (только от частого употребления этих словосочетаний рот наполняла липкая слюна, которую было вовек не сплюнуть, так от них почему-то стало отдавать неискренней казенщиной), а К. – просто очередной преступник, в нескончаемой череде дел, которое он расследует. Папки с уголовными делами так заполнили его сейф, что едва он открывал дверцу сейфа, как папки чуть ли не снежной лавиной накрывали следователя.
Поэтому следователь осторожненько, чтобы не последовало других каверзных вопросов, ответил следующим образом:
– У меня душа свободна, а ваша блуждает в потемках и не видит выхода.
– Где же этот выход? – почти выкрикнул К.
– У каждого свой, но есть общий, – не нарушать закон, (черт, опять унылая казенщина, прописные истины, подумал следователь, но других слов он не нашел).
– Закон, закон, – после вспышки вяло пробормотал К. – Я хочу жить полно, а не прозябать на жалкие гроши.
– Тогда придется лучшую часть жизни провести за решеткой, заработать кучу болезней, стать немощным и тихо помереть где-то в канаве.
К. деланно рассмеялся:
– Конец у нас с вами будет один, так лучше провести жизнь с блеском, а не сидеть за этим унылым столом.
– Поживем, – увидим, – спокойно ответил следователь. – Мы слишком далеко отклонились от темы нашей беседы. Давайте поговорим о Вашем прошлом.
– Неужели оно Вам интересно, – искренне удивился К.
Следователь кивнул головой.
К. помолчал, а потом тихо пробормотал.
– Тогда слушайте.
III
У светофора Верещагина остановилась в задумчивости: куда пойти? По магазинам – она там была вчера, в кино – афишу нового фильма еще не вывесили, а старый фильм она уже видела, ее мальчик куда-то бесследно исчез, а без него было скучно, остались подруги, но дома ли они. О, вспомнила, можно пойти к Ленке, она сегодня дома. Она хвасталась, что купила пластинку добрых молодцев4 с золотым рассветом5. Сейчас самая модная песенка!
Пока Верещагина раздумывала, мимо нее, таща за собой шлейф пыли и отработанных газов, быстро потекли капли разноцветных автомобилей, среди них в основном были москвичи и жигули. Верещагина засмотрелась на них, мгновенно представив себя в шестерке, такой шикарной машинке, выглядевшей как игрушка, вся в блестящих хромированных накладках.
Но если выбирать, лучше оказаться в волжанке, вот эта тачка, длинная, как такса, с мягкими диванами, в которой, откинувшейся на спинку в небрежно-изысканной позе moviestar6, на большой скорости можно рассекать по городу. Другие драндулеты будут покорно уступать дорогу, а их водилы отчаянно завидовать владельцу волжанки; все-таки несправедливо, что она стоит на тротуаре, а не сидит в машине.
Ведь она очаровательная малышка, так сказал один мальчик, с которым она недавно славно повеселилась, и она тут же, придирчиво осмотрев себя в зеркальце, убедилась в правдивости его слов. Поэтому Верещагина стала тихо повторять себе под нос: «хочу в волжанку, хочу в волжанку». И, словно повинуясь ее прихоти, один автомобиль резко взял вправо, притормозил у кромки тротуара, дверца открылась, и из нее призывно замахали.
Верещагина встрепенулась, но неторопливо, набивая себе цену, подняла глаза и убедилась, что перед ней стоит роскошная белая волга, именно такая, в котором она только что мечтала прокатиться. Несмотря на пыльные дороги, корпус волжанки прямо-таки сиял белым перламутром, а ее колеса сверкали хромированными колпаками. Ее сердце застучало быстро-быстро, и она с готовностью подбежала к автомобилю. В ней был пятидесятилетний мужик с курчавыми седеющими волосами, упакованный в фирменные джинсовые тряпки, и на его правом запястье волшебно сияли ослепительные японские часы ОРИЕНТ С КОРОНОЙ.
Она прыгнула на переднее сидение, поерзала, устраиваясь поудобнее, и с гордостью отметила, что у мужика от ее фигуры загорелись глаза. Это уже второй за день, кто облизнулся, глядя на нее, самодовольно отметила Верещагина, но если первый, был сопляком безденежным, не имеющим за душой ничего, кроме сексуальной озабоченности, то этот, второй, сразу видно, солидный мужик с деньгами, она легко раскрутит его, и мужик не пожалеет, что потратился на нее.
Девушка с наслаждением откинулась на мягкую высокую спинку, придала своему лицу так удававшийся ей лениво-презрительный вид. Машина тронулась, и Верещагина гордо посмотрела на людей, понуро оставшихся стоять на тротуаре, пусть все видят и завидуют черной завистью, она едет в такой шикарной тачке!
Мужик, одной рукой управляя автомобилем, другую руку по-хозяйски положил на колено девушки и стал гладить его, забираясь все выше, к трусикам. Верещагина отнеслась к этому спокойно, пусть гладит и пускает слюни, свое от мужика она обязательно получит. Мужик несколько раз внимательно посмотрел на нее, и, точно, не обманул ее ожидания, предсказуемо сказал: «пошли вечером в кабак» и предложил ей самой выбрать кабак.
Девушка задумалась, в кабаках она была очень редко, по пальцам можно пересчитать, но слышала, что самый лучший, это центральный; правда, знакомые девки, которым посчастливилось там побывать, с придыханием говорили, делая преувеличенно большие глаза, какие там заоблачные цены, но там так хорошо-о-о!
Верещагина, бросив внимательный взгляд на мужика и оценив его прикид, тачку и вспыхивающие, как бриллиант под солнцем, японские часы ОРИЕНТ С КОРОНОЙ на запястье правой руки, решила, что у него не убудет, надо идти только в центральный кабак. Пусть потратится на нее и доставит ей маленькую радость в жизни.
Не отрывая взгляда от дороги, Верещагина, чуть помедлив, словно делая ему одолжение, лениво кивнула головой, процедила сквозь зубы: «только в центральный», и протянула руку к яркой пачке американских сигарет «Rotmans», лежавших на передней панели машины. Девушка не курила, но вид пачки импортных сигарет подействовал на нее завораживающе, такая красота, темно-красная пачка из твердого картона с золотой вязью латинских букв, поднимаешь крышку, а там пачка разделена на два отделения, где в серебристую фольгу упакованы длинные сигареты с приятно пахнущим табаком. Мужик, чья рука уже поднырнула в ее трусики и и по-хозяйски неторопливо добиравшаяся до ее лона, произнес: «об чем вопрос, для тебя – любой кабак города, хошь в центральный, так в центральный, я не против, завалим вечерком в него и хорошо там оттянемся».
VII
Следователь никогда не ходил по своим подопечным.
Только в плохих фильмах о тяжелых милицейских буднях показывали, как следователь ходит по домам и тщательно выясняет все обстоятельства преступления. Но киношные следователи за полтора-два часа экранного времени расследовали только одно уголовное дело, а у следователя от этих уголовных дел сейф с трудом закрывался. Когда ему выбрать время, чтобы незваным гостем, хуже татарина, пугать своими визитами жертвенных овнов, что заблудились в пространстве и их слабые копыта, трясясь и подгибаясь после перепоя, никак не могли донести штормящее тело до следователя. Для этих целей есть опера, пусть свой хлеб отрабатывают.
Однако здесь выбирать не приходилось, по уголовному делу К. истекал срок следствия и его надо было сдавать в прокуратуру, и поэтому, если он не срочно не найдет и не допросит Верещагину, придется брать подмышку уголовное дело К. и идти получать очередной разнос от начальства. Хитрые опера, которым он давал задания, вместо Верещагиной приносили отписки, что ее никак не могут найти.
Следователь, проклиная оперов, которые явно ленились, не искали Верещагину и строчили свои рапорты, не выходя из кабинета, был вынужден сам искать девушку, чтобы нанести ей визит. Оказалось, что найти Верещагину было просто. Достаточно было поднять трубку и позвонить в инспекцию по делам несовершеннолетних и договориться с начальником инспекции, чтобы тот прислал ему своего сотрудника, который занимается Верещагиной и знает, где она живет.
Когда к нему в кабинет вошел молодой инспектор по делам несовершеннолетних, следователь решительно затолкал в сейф очередное уголовное дело, которое недавно принесли от начальства с грозной резолюцией о скорейшем его расследовании. При этом следователь привычно пожалел, что сейф сделан из стали, а не из резины, и решительно отказывался принять в свою утробу еще одно дело, но его руки привычно утрамбовали и это уголовное дело среди других, с натугой закрыл дверцу и повернул ключ в замке.
Потом, проникновенно глядя в глаза инспектору по делам несовершеннолетних, сказал, что ему просто срочно необходимо найти Верещагину, пошутив, что только инспектор может спасти никчемную в глазах начальства жизнь следователя.
– Верещагину? Точно? – не поверил инспектор.
Следователь с недоумением повторил, как ему срочно нужна эта девушка.
– Наконец-то! – с восторгом воскликнул инспектор. – Наконец-то я избавлюсь от Верещагиной. Вы не представляете себе, как она мне надоела! Я хожу к ней чаще, чем к любимой, у Верещагиной не квартира, а настоящий притон. Меня все соседки-старушки замучили, каждый день мне звонят и жалуются на нее, а что я могу сделать? В очередной раз побеседовать с ней и в очередной раз грозно предупредить, что нельзя себя плохо вести? Чихала она на мои последние китайские предупреждения. Уставится на меня своими невинными глазками, пустит слезу: «я вся такая из себя одинокая, разнесчастная и некому наставить ее на путь истинный», – что впору пожалеть ее.
– Неужели приходилось ее жалеть? – вроде бы наивно удивился следователь.
– Покорнейше благодарю, не успел, и сейчас я с радостью умываю руки, теперь ваша очередь, – ехидно парировал инспектор.
– Надо будет – пожалеем, – бодро пообещал следователь. – Объясни, почему ты сказал, что Верещагина одинокая?
– Ох, и наплачетесь Вы с ней, – сказал инспектор. Как потом выяснилось, он словно в воду глядел, но следователь был еще счастлив своим неведением, а инспектор с удивлением спросил:
– Разве Вы не знаете ее историю, – удивился инспектор, – мне казалось, что о ней знает весь отдел.
– Не надо преувеличивать, – возразил следователь, – Верещагина – не звезда экрана, у нас таких, как она, по самую макушку, плохих по тринадцати на дюжину кладут.
Инспектор, хмыкнув, согласился со следователем и продолжил свой рассказ, и следователь узнал, что родители Верещагиной расстались, когда девочке исполнилось десять лет. Отец ушел к другой женщине, забыл о дочери, а мама сначала пустилась во все тяжкие и, соответственно, закончила плохо: ее нашли задушенной в канализационной трубе. Отец отказался забрать дочь, у него уже была другая семья, в которой появились дети, и его вторая жена была категорически против нее, а девочка, ставшая уже подростком, сначала оказалась в интернате, а потом ее взяла бабушка. Сейчас бабка сошлась с каким-то дедом и живет у него, а Верещагина осталась в бабкиной комнате в коммунальной квартире. Туда сейчас они и пойдут.
Их путь оказался недалеким, едва они прошли от отдела милиции три квартала, как инспектор повернул на тихую провинциальную улочку с выщербленной булыжной мостовой и тротуарами из длинных каменных плит. Следователь был удивлен, он и не знал, что в городе еще сохранились такие ветхозаветные улочки, на которых время остановилось и казалось, что сейчас из-за угла выйдет городовой, а по булыжной мостовой звонко процокает лошадь, впряженная в пролетку с колоритным кучером на козлах. Просто удивительно, как эта улочка сохранилась в первозданном виде в большом, хоть и провинциальном, городе, закатанном в асфальт по самую макушку.
Однако на улицу, нарушая ее сонную ветхозаветность, выехала не пролетка, а убитая копейка, которая громко рычала мотором, скрежетала коробкой передач и оставляла за собой синий шлейф удушливого дыма. Копейка, покорно кланяясь капотом всем ухабам булыжной дороги, остановилась у старого трехэтажного дома, явного ровесника века. Дом окружали высокие раскидистые тополя. Едва заглох мотор копейки, как на улочке воцарилась прежняя патриархальная тишина. На лавочке, возле дома, положив на колени изуродованные артритом руки, зорко дремали старушки.
Инспектор вежливо поздоровался с ними и потянул за собой следователя во двор дома, он поспешил за ним, и они очутились в темном колодце двора, застроенного ветхими сарайчиками.
– Смотри, вот ее окно, – рука инспектора поднялась вверх и остановилась где-то на уровне третьего-четвертого этажа.
Глаза следователя послушно последовали вслед за рукой инспектора, и над следователем навис угрюмый дом, его первые два этажа были сложены из серо-коричневого камня, а с третьего по четвертый, – из темно-красного, подкопченного временем, кирпича. Под стать старым стенам были и широкие квадратные окна, с частыми переплетами, в свинцовых стеклах которых отражалось нависшее над домом угрюмое небо.
Следователь хотел уточнить, где же окно Верещагиной, но инспектор нетерпеливо дернул его за рукав и потянул дальше. Они вошли в подъезд, дверь в который никогда не закрывалась, поскольку эту дверь давно сняли с петель по причине ее ветхости, а новую не удосужились поставить, по скрипучей деревянной лестнице поднялись на четвертый этаж, и инспектор постучал в пятнистую от осыпавшейся краски дверь. Следователь прислушался и уловил, как в глубине квартиры что-то щелкнуло, послышались шаркающие шаги, и дверь со скрипом открылась.
На пороге появился божий одуванчик с седыми редкими волосами, в старом заношенном халате. Мигнув подслеповатыми глазками, божий одуванчик, прищурившись, узнал инспектора и без слов посторонился, пропуская их в квартиру. Было видно, что божий одуванчик так часто пускает инспектора в квартиру, что у него уже не осталось слов на привычные жалобы о бессовестной молодежи.
Коммунальная квартира встретила следователя запахом старости: мочи и резких кошачьих духов. Вместе с инспектором следователь пошел по длинному полутемному коридору, освещаемым скупым светом сорокасвечовой лампочки, затерявшейся в глубинах потолка. Коридор неожиданно повернулся налево, и они оказались в тупике.
В полутьме инспектор пошарил рукой по стене, щелкнул невидимым выключателем, и жидкий свет очередной маломощной электрической лампочки осветил тупик. Тупик оказался завешенным каким-то старым жаккардовым покрывалом, рисунок и цвет которого было невозможно разобрать в скудном свете. Инспектор приподнял покрывало и нырнул в открывшийся проем, он последовал за ним, и инспектор предупредил, осторожно, ступеньки, и следователь ногой нашарил ступеньки, одна, вторая, третья, четвертая, и они очутились на площадке с одной единственной дверью. Инспектор постучал в дверь. Никто не открыл. Следователь прислушался и уловил из-за двери звуки музыки. Инспектор еще раз постучал в дверь, и опять никто не открыл. Тогда инспектор с силой толкнул дверь, ригель старого замка выскочил из паза, и дверь широко раскрылась, вежливо пропуская их вовнутрь комнаты.
На пороге комнаты их приветствовали слова очень популярной песни: «Take me tonight I want to be your lover»7.
Инспектор повернулся к следователю и ернически произнес: «Прошу Вас на праздник молодой и беззаботной жизни, вы проходите-то, проходите, а я уж в сторонке постою. Насмотрелся я на них».
Следователь вошел в комнату, посредине которой стоял большой круглый стол с голой столешницей, такие столы он видел только в далеком детстве в деревне и не ожидал, что такой круглый стол благополучно доживет в городе до нынешних времен.
Стол был заставлен нольсемилитровыми пустыми бутылками из-под портвейна «Агдам», открытыми консервными банками с оранжевыми этикетками рыбных консервов и бело-красными, столь памятными по студенческим временам этикетками консервов «завтрак туриста», этим завтраком туриста брезговали даже вечно голодные помойные кошки, но следователь помнил, как в годы учебы крепкие студенческие желудки с удовольствием и урчанием поглощали его и никогда не болели. Помимо бутылок и вскрытых консервных банок на столе валялись серые огрызки хлеба, объедки зеленых огурцов и красных помидор. Воздух в комнате был тяжелый, пахло несвежей пищей, застоявшимся табачным дымом.
За столом в одном угле комнаты находилась широкая кровать с железными спинками, а в другом – диван с высокой спинкой и валиками по краям. На кровати, диване и на полу лежали в разных позах парочки. Парочки от их неожиданного появления застыли, как в стоп-кадре, и следователь стал разглядывать присутствующих здесь девушек, пытаясь угадать, кто из них Верещагина.



