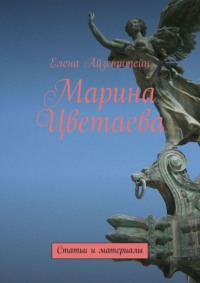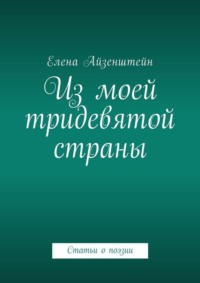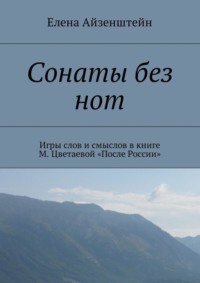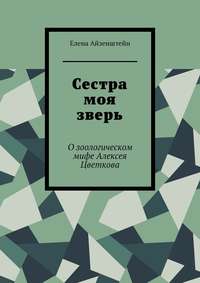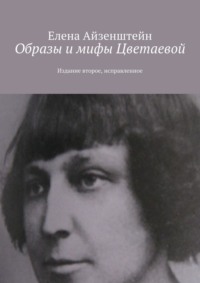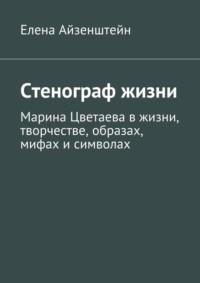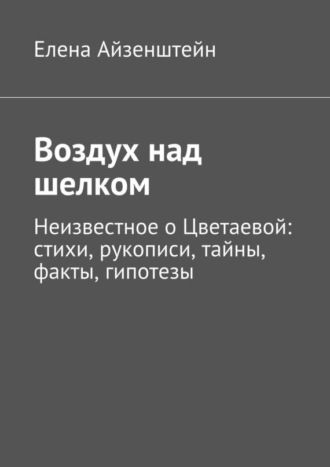
Полная версия
Воздух над шелком. Неизвестное о Цветаевой: стихи, рукописи, тайны, факты, гипотезы
Картина шестая
Ангельский благовест
Колодец св. Ангела – без Ангела. Липы в цвету. Четыре часа дня. На каменном ободе колодца – В е н е р а, в виде почтенной сводни. Черное платье, белый чепец, на груди толстая золотая цепь. Рядом с ней миска с едой. В руках чулок, который она, конечно, не вяжет.
Венера
(Хнычет.)
Из-за группы лип показывается А в р о р а. Если в прежней картине она – тень, сейчас она – привидение. – Но прелестное! – На руках спящий ребенок в тряпках.
Аврора
Венера
Аврора
Венера
(Шепчет ей что-то на ухо.)
() Аврора отшатываясь
(Прижимает ребенка к себе.)
Венера
Аврора
Венера
Аврора
Венера
Аврора
– Стрелы.
Венера
(В это мгновение узнает Аврору. Наклоняясь над ребенком.)
Аврора
Венера
Аврора
Венера
Аврора
Венера
() с разгорающимися глазами
() Аврора над кольцом
Венера
Аврора
Звон колокола.
Венера
() Аврора сложа молитвенно руки
Венера
Аврора
() смотрит на нее, на ребенка – руки расплетаются – и – с бесконечной усталостью
Из-под липы – в синем звездном плаще – Богоматерь. В руках высокая – как лилия – серебряная чаша.
Богоматерь
При виде ее Венера съеживается на земле, как жаба, Аврора падает на колени.
В е н е р а на четвереньках уползает.
() Аврора протягивая руки
() Богоматерь с бесконечной благостью
(Наклоняет чашу. Аврора пьет.)
Ангельская музыка. Аврора встает, как зачарованная обходит колодец – и ликующим голосом – неким любовным аллилуйя.
Аврора
(Глядит, глядит, и)
Богоматерь
Аврора
Богоматерь
() улыбаясь
. . Занавес Последние струи ангельской музыки
Пьеса задумана в марте, начата 14 (27) июня 1919 года, кончена 1 (14) июля 1919 года
Ox-ox-ox! – Грехи наши тяжкие!У соседней вдовы три чашки яКофейку дарового выпила, —А уж сахару сколько всыпала!Нет у матери сына-пахаря,Все до нитки проели-пропили!Не жалейте же чужого сахара!Не жалейте же чужого кофия!Зуб последний – и тот качается…Плохо славная жизнь кончается!Ох-ох-ох! Плохой доход —Лысый лоб, да впалый рот,Да в корявых пальцах – спицы!Спицы, спицы, плясовницы,Спицы, быстрые девицы!Я б сама пустилась в пляс,Каб по швам не разошлась!Щеки дряблы, ноги слабы,И всего одна услада:Что колодец пересох,Ангел каменный издох!Молодцы́ – в собор – на бочке,Под кусты-хвост в зубы – дочки,Поп – и тот дружит с жидом,Где ни плюнь – веселый дом!Каб не старость, ворона черная,Все бы губы о губы стерла яУ кисейного, у окошечка…Ты не дашь ли мне, бабка, ковшичка?Что й-то больно заплаканы,Девка, очи хорошие?Как же, бабка, не плакать мне?Я с ребеночком брошена!– Значит, нет у тебя ковша?И слепа ж ты, моя душа!Аль не видишь – становься с краю —Что в колодце вода – сухая?Дай-ка, де́вица, из мешка,Чем рассеяться. Ешь, не охай!– Значит, де́вица, без дружка —И с ребеночком. – Дело плохо! —Было б лучше – пригнись ушком! —Без ребеночка – и с дружком…Я! Чтоб сына!Да я без зла,Так, сболтнула, ошиблась, старая.– Расскажи-ка теперь, сударыня,С кем ребеночка прижила?Был он знатный, аль так, простой?Сын купецкий, аль так, бездомный?В сердце точно туман густой,Даже лика его не помню…Может, старый какой урод?Аль монах какой? – Бабье дело! —Помню только, что алый ротДа за поясом…Ну-ка?Так охотничек? – Так. – Аха́.Тыщу первый внучек – здорово!Нет, такого уж женихаНам с тобой не сыскать второго!Сам Амур это был. – Твой балПышно начат. – Сам Бог влюбился! —– А за что он тебя прогнал?А за то, что мне Ангел снился.Ангел? Бог? – Дитя, бог с ними,С крыльями, да с счастьем тяжким.Ты богов оставь – богиням,Ангелов оставь – монашкам.Брось крылатые игрушки!Веселей – клянусь Венерой! —Просто-напросто – подушкойСтать любому кавалеру!Слушай, девка! Здесь недаромМы сошлись, – на радость людям!Хочешь сделку? Хочешь – будемЯ купцом, а ты – товаром?Чудо-лавка! Как святынюРазряжу тебя в уборы.А над входом-по-латыни:«Дом Венеры и Авроры».Нынче день у нас – суббота,Скоро день Венерин – вторник.Посмотри-ка: без заботы —И ребеночка прокормишь.По рукам? – Молчишь? – Ну, молчаХоть кивни, коль стыдно – губкам.Я тебе свой опыт волчийОдолжу, а ты мне – зубки.Прибыль – пополам. С ответомПоспеши, а там за дело —Дружно!Ангел мой пресветлый!Что?Колечко побелело!Будут гости даровые:Княжьи первенцы, подростки,Церковь…Иисус-Мария!Что еще?Блестит, как слезка!Благовест!Сынок твой княземБудет в красном весь, в атласном.Ангельская весть!Грязь грязью!Подыхай с щенком!– Согласна. —– Нет! —Как смеешь в мой светлый день,Тварь, торги заключать?– В ту горуЗаключаю тебя навеки!Богородица – Свет!Аврора!– Милое мое дитя!Ради майския субботыЯ у мальчика ХристаВыпросила дар великий:Чашу полную сию,Душу вольную твою.Кто земное божествоВозлюбил, кому небесныйАнгел снился – тот любитьЗемнородного не может.Роза, здесь тебе не цвесть!Слушай Ангельскую Весть!В этой чаше – свет и темь,В ней и Память, и Забвенье.Память о большой любвиИ забвение – о малой.Пей, омой свои устаВ чаше Памяти – Забвенья.– Весь колодец осушу —Не забыть!А колечко если сброшу —Всплывет!Оттого что я тебяОдного —До скончания вселенной —Люблю!Но где ж ты, пресветлый?Иль взор мой не зряч?Ослепла! Ослепла!Девица, не плачь.Тебя не оставимМеж темных и злых, —На облачной славе —Теперь твой жених.О, бедные люди!– Нет, рук не ломай! —Он помнит, он любит,Он ждет тебя в рай.А как же с сыночком?Их много – в Саду!К другим ангелочкамЕго отведу.
«Событие природы»: лирика 30-х годов
«Дагерротип души»
Природа неизменно права,
только человеку
присущи
ошибки и заблуждения. (1829)
«Разговоры с Гёте»Душа из глаз людских в глаза домов
Ушла. (1928) 4
Природа в цветаевской лирике 30-х годов, ввиду почти полного отсутствия эротической темы, оказывается вместе с темой творческого ремесла самой насущной. Жизнь воспринималась адом, природа ― райским садом, была СОБЫТИЕМ, НОВОСТЬЮ, ЧУДОМ. Две темы: творческая (неоконченная поэма «Автобус», цикл «Стол», диптих «Отцам», стихи «Двух станов не боец, а если – гость случайный…») и природная («Дом», «Бузина», «Тоска по родине», «Куст») – вызываются к жизни зачастую стихами Бориса Пастернака, диалогом и соревнованием с ним, братом-поэтом, творчеству которого посвящены статьи «Эпос и лирика современной России» (1932), «Поэты с историей и поэты без истории» (1933).
Сообщение о том, что Пастернак влюблен, Цветаева получила в письме сначала в феврале 1931 года от Р. Н. Ломоносовой, а потом уже от самого Пастернака в марте 1931 г. Если в Чехии ей казалось, что «Москва за шпалами, то в июне 1931 года она осознает: ей не к кому ехать в Россию. В письме Борис Леонидович чувствуя отчасти женскую обиду Цветаевой, оправдывался перед ней за свое новое счастье, утешительно утверждал мысль о ее гениальности, писал об отзывах на ее произведения своих знакомых, сообщал, что начал подумывать о ее возвращении, просил написать ему в Киев, правда, на имя Зинаиды Николаевны Нейгауз (ЦП, с. 538). Июньское письмо показало Цветаевой истинное положение вещей: Пастернак видел в ней только поэта, его письмо оскорбляло в ней любящую женщину. Эпистолярный удар, полученный из-за пастернаковской новой любви, послужил импульсом к стихотворению «Страна», в котором Цветаева оплакивает невозможность вернуться «в дом, который – срыт». Раньше она писала Пастернаку на Волхонку- в письме от 5 марта 1931 года Пастернак просил ее временно адресовать письма на квартиру Пильняка. Возвращаться даже мысленно некуда! Об этом четверостишие, записанное во время работы над стихотворением «Страна»:
Отсюда попытка увидеть не в России, а в парижском предместье, в Мёдоне. Стихотворение «Дом» (впервые опубликовано: // СЗ, 1933, №51, без даты), написанное 6 сентября 1931 года, рисует дом цветаевской души, утопающий в зелени, дом-крепость и дом-сад, зеленый пережиток прошедших лет, одинокий, смотрящий собственные сны, отгороженный от времени и, несмотря на 150-летнюю историю, юный, укрытый от жизни листвой и стихами. Цветаева редактирует «Дом» в «пушкинской» тетради, и в образе дома, прячущегося «под кудрёй плюща» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 22, л. 49 об) – сходство с курчавым Пушкиным. Окно цветаевского дома хранит «завет / Отцов» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 22, л. 52 об), пушкинский завет. Сбоку в черновике приписано: „ <завет> / высот» (Там же). Цветаева думала о поэтической преемственности, о своих корнях. У нее была потребность ощущать какую-то опору в мире, где она выглядела пережитком, как воспетый ею старинный особняк. В стихотворении «Дом» она убежденно говорит, что кончит жизнь «от улицы вдали», укроется за стихами, «как за ветвями бузины». Тетрадь – уединенное жилище, в которое уходит поэт из бесприютной жизни. Ее дом зеленооконный, как ее зеленые глаза, как листва деревьев, которые она так любила. Образ оконного стекла являлся метафорой ее одиночества поэта, метафорой отрешенности, сдержанности, строгости, сновиденности, стихийности поэтического слова. Цветаева искала вариант 22—го-23 стиха: дом
Окончательный текст:
Марине Ивановне хочется всматриваться в прошлое, как в старые фотографии, чтобы вернуть минувшее в слове. Несмотря на то что ей уже 39 лет, она ощущает себя еще такой молодой: «Из-под нахмуренных бровей / О зелень юности моей! / Та риз моих, та бус моих, / Та глаз моих, та слез моих». О вынужденности своего поэтического молчания в черновиках «Дома», Цветаева писала: «Дом предрассудок, дом / Кляп в рот». В окончательном тексте последние строки станут более лиричными, акцент будет дан на несовременности поэта, на утаенных в его душе богатствах, на верности юношескому мифу о Поэте, который не пишет на злобу дня, живет в своем уединенном мире: «Меж обступающих громад / Дом пережиток, дом магнат, / Скрывающийся среди лип. / Девический дагерротип / Души моей».
Трагический пафос выражен в «Бузине», которую Цветаева начала писать 11 сентября 1931 года в Мёдоне, а завершила – 21 мая 1935 года в Ванве, незадолго до приезда во Францию Пастернака (впервые «Бузина» опубликована в кн. : Цветаева М. Избранное. М., 1961. «Бузине» посвящена статья Т. Кузнецовой «Верьте музыке»: Цветаева и Штейнер. Поэт в свете антропософии. М. : Прицельс, 1996, с. 138—155).»… Как за ветвями особняк /, я́ за стихами так», – пишет Цветаева во время работы над «Домом». «Бузина» по смыслу явилась продолжением «Дома». В «Бузине» та же мольба о доме, только не из камня или кирпича, о доме Природы, который нужен поэту «вместо Дворцов Искусств» – здесь ироничный пассаж в сторону СССР, она вспоминает Дворец искусств на Поварской, где бывала в революцию, чуждается всякой массовости. Древесно-природное начало – родина уединенной души:
Зеленый и синий цвет – символы цветаевского двоемирия, любви к природе, лазори неба и творческого моря. В тетради1931г. во второй строфе с бузиной ассоциируется звон, связанный с творческим началом, с музыкой лирики, с высокой болезнью искусства: «А потом – на какой-то заре/ Вдруг проснешься – аж звон в голове/ от бузинной <пропуск в рукописи> трели». (ЧТ23, л. 9). Любопытно сопоставить католический и мусульманский варианты 7—8 стиха этой строфы 1935 г. с окончательным, русским:
В окончательном тексте – вызывающий восторг костер самоистребления. Эпитет «пузырчатой» был связан с музыкальной трелью. Цветаева вспоминала Моцарта, его Розину, Фигаро: «От бузинной Розинной трели» (ЧТ-26, л.3). Музыка – аккомпанемент детства, бузина – источник душевно-духовного становления.
размышляет Цветаева в тетради 1935 года. Стихотворение – попытка защиты собственного внутреннего мира и памяти детства, защита Прошлого. Цветаева все еще страстно любит жизнь и пишет о болезнях своего века через образ меняющегося бузинного куста. В черновой тетради 1931 года, в третьей строфе, бузина, как и в окончательном тексте, и рай, и ад одновременно: «о рай мой красный! / Из всех ягод зеленых – о яд! – / Та, которую не́ едят (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 23, л. 5 об). Ядовитость бузинного куста напоминает пушкинский «Анчар» (1828), упомянутый Цветаевой в «Крестинах» в качестве яда брачных уз, смертоносного для души. У Пушкина древо смерти растет в пустыне, у Цветаевой – в России. Первоначальная редакция третьей строфы 1931 г.:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Simon Karlinsky. Marina Cvetaeva. Her Life and Art. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, 1966, p. 283—289.
2
Тексты из рабочих тетрадей Цветаевой приведены в соответствии с авторской орфографией и пунктуацией. В конъектурах (в угловых скобках) даны слова, написанные Цветаевой в сокращении. Если расшифровка вызывает сомнение, слово также приводится в угловых скобках, иногда с вопросом в конце. Помета «нрзбр.» означает одно пропущенное слово. Примерные даты писем даны в угловых скобках. Строки, зачеркнутые в рукописи, – в квадратных скобках. Большая часть материалов из рабочих тетрадей Цветаевой публикуется впервые. Первая публикация, ввиду множественности цитат, обозначена не везде. Ссылка на опубликованные ранее архивные источники дается потому, что предыдущие публикации полны неточностями).
3
М90, т. 1, с. 109. О пушкинском истоке строк Мандельштама впервые: Мусатов В. В.. Об одном пушкинском сюжете в «диалоге» М. Цветаевой и О. Мандельштама 1910—х годов. // Проблемы современного пушкиноведения: Межвуз. сб. науч. трудов. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1986, с. 103—111. (1916)
4
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 18, л. 69. Контекст в тетради четвертая картина «Федры» и планы и черновые варианты ко второй части поэмы «Егорушка».