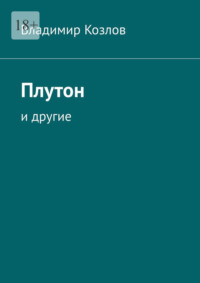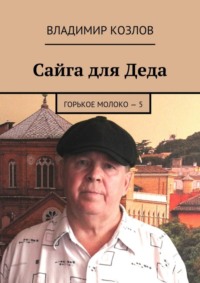Полная версия
Хвост фюрера. Криминальный роман

Хвост фюрера
Криминальный роман
Владимир Козлов
На обложке Museo del Prado "The Sense of Sight" Jan Brueghel the Elder, Pieter Rubens, 1617
© Владимир Козлов, 2021
ISBN 978-5-4474-8170-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Владимир Козлов, родился в Нижнем Новгороде в 1950 году. Автор трилогии Горькое молоко, романов Родиться царём, Разбитый калейдоскоп, Сестра Морфея, Танго скорпионов и других произведений.
Владимир Козлов: В первой части книги Хвост фюрера (Воровской орден) читатель узнает, как вор в законе по кличке Таган знакомится в Риге с очаровательной дочкой покойного генерала НКГБ Натальей Каменской, ранее тоже работавшей в этом ведомстве. Она дарит своему гостю костяную фигурку Пифагора, из-за которой на грани мистики произойдёт ряд невероятных и трагических событий.

Хвост фюрера
ВОРОВСКОЙ ОРДЕН
(часть первая)
СВОБОДА
Из Владимирского Централа, где Глеб Кузьмин досиживал последние годы своего многолетнего срока, его встретил вор в законе Вася Краковяк и передал ему подъёмные деньги от лучшего друга – Петра Барса, не сумевшего из-за непредвиденного обстоятельства присутствовать при его освобождении.
Владимир – один из самых старых городов России, с множеством церквей и монастырскими комплексами и других исторических памятников озаряло жаркое летнее солнце. Единственный Владимирский централ не поддавался влиянию никакого светового потока. Эта самая известная и суровая своими порядками крытая тюрьма, всегда отдавала таинственной мрачностью и страхом. Все эти достопримечательности остались стоять позади на высоком берегу реки Клязьмы. Через четыре часа он был уже во владении реки Волги. Стрелки часов на стенах Московского вокзала в городе Горьком показывали ноль часов пятнадцать минут. Душа рвалась домой, но, как назло, в этот день из-за профилактического ремонта мост был перекрыт и автотранспорт по нему начинали пускать только с шести утра. Первая электричка так же отправлялась только в пять утра. Деваться было некуда, и он решил прикорнуть на вокзале. Пристроившись на жёстких облезлых скамейках, он закрыл глаза в надежде уснуть, но сон не шёл. Так с закрытыми глазами он и просидел до самого утра. Когда рассвело он, прихрамывая, последовал к пригородным кассам.
Вскоре он сидел уже в электропоезде. Сидевшая напротив его тётка с сумкой и корзиной смотрела на него подозрительно, ни на минуту не выпускала из рук свой багаж. Относительно его прошлого у неё не было никаких сомнений. Острижен наголо, большой шрам на лице, выдавало его, как человека, прошедшего огни и воды.
Он не обращал на тётку внимания, так как был полностью поглощён просторами, которые простирались за грязными стёклами окна электрички. Через полчаса он доехал до своего города и тяжело поднявшись с сиденья последним вышел из вагона. «Домой, только домой!», – пронеслось у него в голове.
Не спеша сойдя с электрички на единственную платформу железнодорожного вокзала «Моховые горы» своего родного городка, он в единственной ноге почувствовал нервное подёргивание, которое отдалось во всём его теле. Он сразу ощутил, что произошло это от крайнего перевозбуждения. Глеб подошёл к ограждению платформы, где стояло деревянное сиденье, и опустил на него своё не израненное войной тело, чтобы немного передохнуть. На самом деле он просидел неподвижно около вокзала, не меняя позы почти три часа, пока не почувствовал, что летнее солнце так пригрело его, словно с ног до головы окутало жарким одеялом. Очнувшись, он похлопал себя по карманам. Туго набитые деньгами карманы брюк заметно оттопыривались, и он безбоязненно прямо на перроне, переложил деньги из брюк в карман пиджака, который был, перекинут через руку. Он начал воодушевлённо осматриваться по сторонам. Потом вдруг тяжело задышал и, устремив свой взгляд вперёд, опираясь на изящно вырезанную трость, осторожно начал спускаться с перрона по выщербленным бетонным ступеням.
Дойдя до вокзальной площади, почувствовал сильное головокружение и бешеное сердцебиение. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Взмокшая от сильной жары и трепетного волнения рубашка, неприятно прилипала к голому телу и вызывала нежелательный зуд. Всё тот же небольшой деревянный вокзал, – фасад которого больше был похож на сельский клуб, отдавали отголосками окончания войны. На этот вокзал он приехал после дня победы на товарном составе в сорок пятом году. Рядом зелёный сквер, обнесённый штакетником, где по центру виднелся поставленный ещё до войны небольшой памятник герою гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву. Всё было по-старому, кроме заасфальтированной вокруг площади и электрички, на которой он справлялся к родному уголку впервые в жизни. Захотелось крикнуть во всё горло: «Ну, вот я и дома!»
Двадцать лет Глеб Кузьмин не был в родном городе. По – разному возвращаются люди в родные края. С безудержным и неуправляемым восторгом. Те – у кого звезда на лбу засветилась, въезжали в город с важностью и хвастовством. Провинившиеся грешники, – с поникшей от стыда головой и прощением, в надежде найти утешение у родных и близких. Но все возвращаются туда, где они родились, и где прошло их детство и молодость. У него же в этот миг не было ни стыда, ни раскаяния и тем более хвастовства и важности. Была растерянная поступь и радость, которая приятно мутила голову. Ему до сих пор не верилось, что позади его не шествует вооружённый конвой с рычащими овчарками. И что он запросто по своему желанию без всякой команды может идти туда, куда его многострадальная душа пожелает.
Он сделал глубокий вздох и пересёк привокзальную площадь. У большой бочки с квасом за шесть копеек утолил жажду, – залпом выпив кружку квасу. Не напившись, – повторил. Закурил сигарету и не найдя поблизости урны засунул обгоревшую спичку в коробок. Не петляя по улицам, – боясь запутаться в новых строениях и обходя кирпичные дома, – ориентир взял на свою улицу Южакова. Зная, что это самая крайняя улица в городе. Позади неё, только две реки Славка и Весёлка, а чуть дальше матушка Волга с её красивыми берегами. Осторожно, чтобы не улететь в нескошенную густую траву, он спустился по деревянной многоступенчатой лестнице на улицу Суворова. Тут он сразу очутился на площади Победы, которой раньше и в помине не было. Высоко в ослепляющее солнцем небо взлетел обелиск с гигантской чашей, из которой, совсем без трепета и, не колышась, показывался еле заметный синеватый язык горящего газового пламени, – вечный огонь в память о павших воинах. И живые цветы на постаменте. Впечатление такое было, что возложили их только сегодня. Недалеко от обелиска, словно стиснутая по сторонам кустарниками канадского дерна, протянулась аллея героев, с портретами участников Великой Отечественной войны. В его памяти сразу пролистнули некоторые эпизодические страницы того кровопролитного времени. Голова вновь закружилась и он, сжав зубы посмотрел по сторонам. Увидев около газона – треугольника тётку, продававшую цветы, – направился к ней. Сунув ей, пять рублей, – продавщица отдала от радости ему все цветы и, схватив корзину, исчезла за зеленью кустарников. С влажными глазами он положил букет перед обелиском, не замечая, что обращает на себя внимание прохожих. После возложения цветов он, молча, постоял минуту под газовой чашей, затем зашагал на свою улицу. Дома своего не узнал, – отыскал по номеру. Калитка была открыта настежь. Поднявшись на крыльцо, он взволнованно дёрнул дверь. В нос ударил запах ситных пирогов и жареного лука с мясом. Натруженные руки старшей сестры Дарьи обвили его шею, – громкие рыдания и слезы радости добавили мокроты на его рубашке. Из сада в дом вбежали уже взрослые племянники – погодки, которых он помнил мальчишками в коротких штанишках.
До сумерек они вчетвером сидели за богатым столом, после чего он, окутанный заботой близких родственников, уснул на белоснежной постели.
НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИСТОРИИ
Феликс Нильс был одного возраста с Глебом и знал его со школьной скамьи. Он выходец из семьи латышских немцев в детском возрасте скверно изъяснялся на русском языке, но разговаривал хорошо на немецком и латвийском языках. В детстве он был очень болезненный мальчик и часто пропускал школу, отчего очень слабо учился по некоторым предметам.
Феликс, – тогда сын начальника ремонтных мастерских посещал школу в красных новых валенках, что являлось символом достатка семьи. К своему соседу Глебу по парте он относился с видимым высокомерием, так как Глеб в то время носил подшитые дратвой чёрные валенки, на которых заплаток было столько же сколько и на видавших виды штанах. Глеб, в отличие от Нильса никогда не носил в школу завтраков и когда тот в переменах разворачивал перед ним кусок хлеба с салом. У него всегда от дразнящего запаха текли слюни, и когда Нильс приступал к перекусу, он от искушения выходил в коридор. В этот миг на Глеба накатывала мальчишеская злость и он готов был врезать увесистый подзатыльник, этому маленькому барчуку с нерусской фамилией. Ему часто хотелось отобрать у Нильса лакомый кусок, но он перебарывал в себе это желание. Глеб всегда считал, что несправедлива жизнь, когда у кого-то в животе урчит от голода, а у кого-то отрыжка изо рта благородная исходит от сытости.
Он по наивности своей думал, что все такие барчуки, как Нильс должны посещать другую школу, чтобы не дразнить голодранцев своими упитанными рожами. К тому же у этого Нильса был «персональный гужевой транспорт». Ни для кого не было секретом, что колхозные лошади использовались тогда отцом и дедом Нильсами в личных интересах. В школу Феликса всегда привозил его родной дед на двуколке. (кстати, любовь к лошадям дед передал и внуку). Этого деда за глаза вся местная округа называла «Фазаном». Любил он зимой рядиться в рыжий тулуп и на шею повязывать ярко-голубой шарф. На голове у него хоть зимой хоть летом сидела бессменная остроконечная с красной звездой будёновка. Этот наряд делал его похожим на птицу фазан, которую из соседей не только на вкус не знали, но и в глаза никто не видал. Дед – Фазан считался лучшим знатоком по лошадям. Все к нему шли за советом, если заболела лошадь или кто – то захотел приобрести себе это нужное в хозяйстве домашнее животное.
Феликс у него был единственный внук, и он занимался им больше, чем родители. Он полностью оберегал его заботой и сдувал с него пылинки. Знаний ему дед давал не меньше, чем школа. Благодаря деду он изучил языки и освоил прилично русскую грамоту. Пёкся Фазан и о здоровье внука. Зимой дед укутанного в полушубок Феликса сажал на сани с соломой и подвозил к самому крыльцу школы, где его бричку сразу же окружала ребятня.
Он вручал внуку портфель с книгами и обедом, затем безжалостно кнутом хлестал по крупу лошади и громко кричал: – «Но шалавая!», – и, как заправский ямщик срывался с места, не видя, как сзади несколько мальчишеских рук цеплялись за бричку, и он их тащил на несколько метров от школы. Когда он чувствовал, что лошадь тяжело бежит, не поворачиваясь назад, кричал мальчишкам:
– Валенки поганцы прокатаете, – ходить в школу не в чем будет. Неучами хотите вырасти!
После чего мальчишки расцепляли свои пальцы, но по инерции ещё катились по накатанной дороге.
Отец Феликса раньше служил в латышской стрелковой дивизии, и являлся героем гражданской войны.
У деда же послужной список был весомей, чем у отца, – он был не только героем гражданской войны, но и первой мировой. Он служил в царской армии, где удостоен был звания подпоручика кавалерии и награждён Георгиевским крестом. В тысяча девятьсот девятнадцатом году перешёл в первую конную армию Будённого, где ему пришлось рубать шашками тех, с кем он вместе давал клятву верой и правдой служить царю и отечеству. Лицо деда украшали с завёрнутыми кверху кончиками пушистые усы, как у Будённого. Они были его гордостью. Промежду слов он никогда не забывал вставить, что лично был знаком с Семёном Михайловичем и имеет от него наградное оружие, которое висит на стене в горнице. Ему верили, так как он на Октябрьские праздники не раз надевал портупею с этой саблей и ходил по соседям в гости, выпить первача, а заодно и похвастаться наградной шашкой.
В седьмом классе Феликс щеголял по школе уже в настоящих офицерских сапогах и на завтраки себе носил в банке пшённую кашу с мясом и обязательно одно большое яблоко. Тогда – то он и получил позорную кличку «Каша».
Поволжье тогда голодало, но не всё. Такие, как Нильсы нужды никогда не знали. Они не были похожи на пролетариев, и это заметили сотрудники ГУГБ.
За отцом и дедом приехала ночью «карета смерти», оставив Феликса с матерью и бабкой одного. Они были уличены в крупных хищениях народных средств, мало того деда обвинят в связях с контрразведкой Юденича во время гражданской войны. Больше их из родни уже никто не увидит. Сталинская жестокая система наказания в те времена никого не щадила. Была самая настоящая мясорубка по уничтожению людей.
Тогда не закончив семилетку, Феликсу пришлось бросить школу и идти работать подмастерьем сапожника в обувную артель, где ему с больными лёгкими пришлось работать и в военные годы. Стране тогда нужны были кирзовые сапоги, чтобы обуть многочисленную армию солдат. И он работал, там не щадя своих сил. Феликс был рад, что его по состоянию здоровья молодого парня не забрали на фронт, как других его одногодок, на которых постоянно приходили похоронки матерям и жёнам. На одной молодой вдове Малафеевой Зое в сорок втором году, ему пришлось жениться. Она сама была из не бедной семьи и имела завидное подворье. В то время козы и пасека, – это по сути дела спасение от голода. Зоя и Феликс никогда не отличались скупостью и по возможности делились со своими соседями мёдом и молоком. Не забывали они и о семье Дарьи, которой тоже не сладко жилось в военное и послевоенное время. И не только Зою можно было видеть с мёдом и молоком на крыльце Чашкиных, но и Феликс не редко уделял этой семье внимание. Сам Феликс тоже сел на козье молоко с мёдом и вскоре понял, что лёгкие его уже не беспокоят. Тогда и отпечаталась у него искренняя улыбка на лице и доброе отношение к людям. А следом на свет появились один за другим трое сыновей Карп, Зосим и Иосиф.
Карп родился первым. Он рос пухлым неким маленьким увальнем, затем появился Зосим, а младший Иосиф родился в день победы над гитлеровской Германией. Именно в честь Сталина его и нарекли таким именем. Феликс к тому времени работал начальником цеха и считался хорошим руководителем, но уже не артели, а обувной фабрики имени «Клары Цеткин». Но для всех, кто его знал с детства, он всё равно был Кашей. Перед окончанием войны Нильс вступил в партию, но никогда не лез со своим положением вперед. Он довольствовался, тем чего достиг и жил обособленной жизнью. После войны Феликс резко изменился. Даже встретив на улице в первые дни мира своего соседа по парте Глеба, резко свернул в переулок. В доме у себя Феликс никогда гостей не привечал. С мужиками ни с кем не выпивал. Был скрытен и занимался лишь своими домашними делами. С людьми он общался только на работе, хотя и разговаривал давно без акцента. В свободное от работы время он ни с кем не встречался и для соседей его дом был закрыт. Но когда посадили Глеба в тюрьму, он по-прежнему со своей женой продолжали помогать вдове Чашкиной. И надо сказать, что помощь эта была ощутимей, чем в военные времена. Неоднократно Дарья получала от них и сахар с мукой, разные крупы и конечно мёд с молоком. Объяснение этой доброте было очень простое. В те времена никогда соседи не проявляли чёрствость к чужому горю. И это было правдой. Почти вся улица помогала Дарье растить детей, да и городские власти не забывали о ней, то ботинки со школьной формой купят для детей, то пальто, а когда и продукты завозили, где в основном были рыбные консервы и пресное печенье. Но всё равно так, как помогала семья Нильсов, ей никто не помогал. Сам Феликс всегда был и оставался загадкой для жителей улицы Южакова. Его переменчивость поведения была налицо. То он становился чрезмерно общительным, мог разговориться даже с глухонемым, то прятался от людей и не ходил даже на свою любимую рыбалку. А причиной этому необъяснимому поведению были вспышки его заболевания. Иногда ему казалось, что у него наступает криз. Боясь, что у него в лёгких бунтует туберкулёзная палочка, которая может с лёгкостью перейти к здоровым людям, в чём его могут обвинить. Он тогда прятал себя от людей в домашний футляр. Даже на работе в это время он с рабочими разговаривал на большом расстоянии. Но опаски его были не оправданы. Не было у него никакого туберкулёза. Об этом ему авторитетно заявляли пульмонологи. Но как бы, то, не было, – фобия к страшной болезни у него осталась, и поэтому он избегал людей. Не редко к нему ненадолго в ворота заезжал старенький легковой автомобиль марки Газ – А, который однажды заинтересовал органы. В один из таких заездов Феликса и водителя Климова взяли с поличным. В машине нашли несколько пар хромовых сапог, которые шили для высшего офицерского состава. Это был год смерти Сталина. Нильсу тогда дали десять лет лишения свободы. К этому времени Глеб уже отсидел приличную часть своего срока. При следствии установится, что Климов во время войны лютовал в форме полицейского на территории Смоленщины и его дело передадут в органы безопасности. Больше о нём никто и никогда не услышат в городе. А Феликс после двухлетнего заточения в тюрьме, в пятьдесят пятом году попадёт на лесоповал, где встретится на лесосеке со своим одноклассником и соседом Таганом.
ВСТРЕЧА НА ЛЕСОПОВАЛЕ
Глеб Кузьмин по кличке Таган отбывал свой срок в лесном посёлке Бурелом, и в то время у него были ещё обе ноги. Мало того Глеб имел влияние на многих заключённых, так как был коронован ворами в законника. Имея большой авторитет на зоне, он имел и неограниченные возможности в своём кругу. Но вёл себя скромно и на облака залезать не собирался. Ему места хватало и на этой грешной земле, где он презирал администрацию и продажных сук, которые всячески подпевали администрации и безбожно стучали не только на воров, но и мужиков. Воры всегда держались особняком и случайных людей к себе не подпускали. В конце зимы на делянке Глеб и увидит знакомое лицо, трелевавшее лес на лошади. В рваном бушлате подвязанным на пояснице куском проволоки и уши на кургузой шапке с облезлыми завязками, перетянутыми на подбородке, не могли изменить внешность Нильса. Глеб без труда признал Феликса, в детстве избалованного барчука и после войны городского щёголя.
Глеб сидел в кругу воров около костра:
– Феликс, – окрикнул его Таган. – Ты как сюда попал?
Нильс подошёл к костру и, вглядевшись в лицо Тагана, бросился, полу согнувшись около него в подобострастной позе. Чуть не целуя, он принялся радостно трясти пропахшие костром руки своего соседа и одноклассника. Такое приветствие Тагана немного смутило:
– Но, но Феликс, – осёк его Таган, – ты ещё целоваться начни. Раньше ты, такой любовью ко мне не проникался. Здесь не церковь, не принято приветствовать подобным образом даже закадычных друзей. А ты, как я помню, мне и приятелем не был, хоть и приходилось мне сидеть в классе с тобой за одной партой. Ты был барчуком, до той поры, пока не посадили твоего деда и отца. А после войны ты вообще зажрался, на драной козе не подъедешь.
Феликс, не выпрямляясь и держась одной рукой за поясницу, сделал недоумённый вид:
– Глеб, как же так, мы же с тобой здесь оказались на чужбине далеко от дома. Негоже нам чураться друг от друга. Врагами мы с тобой никогда не были. А если у тебя и остались какие – то детские обиды на меня, то их давно надо забыть. Два года тюремной жизни заставили пересмотреть мой характер и взгляды на жизнь! Правда, вот поясницу я свою подсадил, разогнуться не могу. Из тюрьмы возили на работу на каменный карьер, буты рубать. Это настоящая каторга была. Здесь тоже не сладко, но всё – таки воздух лечебный, – для моих лёгких самый раз.
Феликс, склонился перед костром и, сбросив с себя тонкие, неоднократно штопанные, тонкие с двумя пальцами тряпичные рукавицы. Его пальцы были скрючены от мороза и почти не шевелились. Он протянул свои окоченевшие кисти рук к потрескивающему дровами огню и обвёл взглядом всех зеков около костра. И как бы оправдываясь, ни перед своим земляком Глебом, а перед ними жалобно произнёс:
– Я ведь почему был необщительный, чахотка у меня тогда была, да и на русском языке не особо прилично разговаривал. Постарше стал, осилил русский язык, а в войну управу я нашёл на свою чахотку, благодаря супруге Зое. Понимаешь, выходила она меня козьим молоком с мёдом и с тех пор эта ненавистная болячка, редко меня беспокоит. Лёгкие почти чистыми стали!
– Чистые лёгкие это ещё не говорит, что у тебя вся душа такая, – сказал скуластый молодой мужчина по кличке, Барс. – Ты скажи лучше нам, какой масти будешь и в каком бараке живёшь? Может, тебе вообще не положено подходить к воровскому костру. Ты знаешь, как напряжена зона. Сук и чертей развелось, как собак нерезаных. Возможно, ты тоже из этой стаи? Больно вид у тебя позорный.
– Нет, нет, – напугавшись грозного вида Барса, протянул Феликс, – я не при делах. Меня только вчера привезли и ни к кому я не отношусь. Сами поймите, куда я полезу, не зная броду? Вот осмотрюсь, а там видно будет, но хотелось бы быть рядом с Глебом. Всё – таки родственная душа отыскалась в такой глуши. Плохо, что меня бросили в третий барак, – посетовал он, – молва о нём грязная идёт.
– По базару вроде ты толковый мужик, но смотри не испортись в третьем бараке, его птичником называют, где обитают два самых главных петуха Кочубей и Джамбул, – сказал всё тот же Барс, изобразив из пальцев петушиный гребешок.
– Мне до них нет никакого дела, я сам по себе, – сказал Феликс, – всё – таки в тюрьме я прошёл неплохие, я бы сказал поучительные университеты. Знаю, как себя вести. Сидел немного в одной камере с Часовщиком и Молитвой. Было, от кого жизнь арестантскую понять.
Таган саркастически улыбнулся и, помешав в костре палкой, выкинул к ногам Феликса две печёные картофелины и луковицу:
– Ешь пока горячее, – сказал он, – и иди, работай, – нам с коммунистами не по пути. Часовщик с Молитвой известные воры в законе и не думаю, что они смогли бы тебя подпустить к своим нарам. У тебя на лбу написано, что ты из краснознамённого стана! Мы тоже не простые воры и не нужно тебе около нас тереться. После поймёшь, почему? И ещё спасибо скажешь мне за это. Не думай, я тебя не отталкиваю от себя? Замечу, что разговаривать ты стал действительно без акцента. То есть время у нас с тобой ещё будет поговорить. А, что тебя посадили, я знал давно из писем Дарьи. И что в подельниках у тебя был самый настоящий предатель и изверг, это тебе не делает чести. Должен понимать, так как многие меня окружающие здесь люди воевали в штрафных батальонах, да и сам я не из подполья бил фашиста. Кстати, а наших земляков здесь много сидит. Может, кого и знаешь по воле, но они не такие, как твой подельник.
– Кто же знал, что он такой ирод? – оправдывался Нильс, – если бы знал, что этот палач казнил наш народ, – своими руками бы удавил.
Феликс, обжигая рот, сжевал вместе с кожурой и шелухой картошку с луком, чем вызвал смех у воров и, поблагодарив блатную компанию и взяв свои уже подсохшие рукавицы, направился работать. Но не отойдя далеко, Таган вновь его окликнул.
Феликс вернулся и Таган бесцеремонно содрал с него рукавицы и бросил их в костёр.
– На тебе справные варежки, – отдал ему свои ватные рукавицы Глеб, – а я себе найду.
Этот поступок человеческого внимания со стороны вора в законе до слёз пробил сентиментального Феликса. И он, спрятав лицо сгорбившись направился туда, где раздавалось нудное пение пил.
– Таган, а мне, кажется, он мужик неплохой, – сказал Пётр, – зря ты его от нас пуганул. Нравится мне его лицо, и речь, в общем – то приятная, без тормозов. А это говорит о его честности. По крайней мере, на суку он не похож.
– Не нужен он нам, – скручивая цигарку, сказал Глеб, – живёт он от меня через пять домов. У него отец и дед были репрессированы в лихие годы. Совсем без вины пострадали. Так, он вместо того, чтобы затаить злобу на большевиков и таракана усатого, назвал одного сына в честь Сталина. Чуешь, чем это пахнет Пётр? – спросил он Барса.
– Оскорблением памяти близких, – изрёк Барс.
– Нет, друг – это не оскорбление, а боязнь за жизнь своей семьи, как бы их не постигла участь его предков. У него трое детей, – за них он и нас в любое время вложит. Пускай он лучше подальше держится от нашей лиги. И нам не будет до его личности никаких сомнений. Жить спокойно, – это тоже своего рода кайф! Более того, я благодарен его семье, что в трудные годы хорошо помогала моей семье. Да что там говорить братки, – метнул на воров свои глаза Глеб. – Тот мёд, который мы несколько лет хаваем с вами, это он мне присылал с сестрой. И я специально не выразил ему благодарности за это, чтобы не сблизится с ним. Но что меня поразило, он сам, ни словом не обмолвился об этом. А это я вам скажу, многого стоит! Всё – таки вора иметь в отмазке не каждому новичку такое счастье улыбается. Ведь по понятиям я его за добрые деяния должен пригреть, и он это понимает, – не первый год сидит. Значит человек он не гнилой, а самостоятельный, рассчитывает на свои силы. Понаблюдаю за ним, как он жить будет, а там посмотрю.