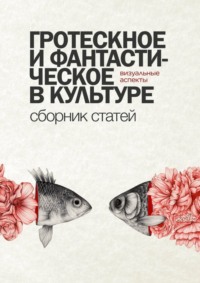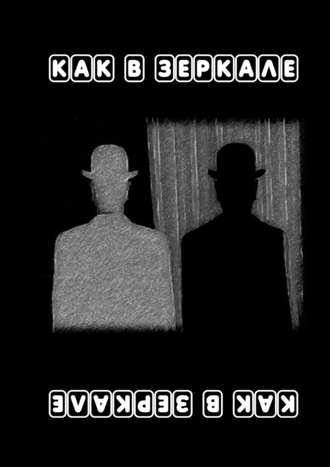
Полная версия
Как в зеркале. Материалы монодраматического мини-фестиваля
Именно поэтому видится важным, что книга называется «Как в зеркале». Попытаемся объяснить это название. Его выбор обусловлен, видимо, двоякой художественной установкой самих произведений. С одной стороны, каждая из монодрам ориентирована на сценическую репрезентацию кризисного опыта другого – героя, то есть определённого человека, живущего во вполне конкретных условиях времени и пространства (например, в современном Париже, как в «Ретроспекции» Виктории Косенко и Ольги Рывкиной), часто имеющего определённый социальный статус (студентка химического факультета в «Перекипающем чайнике» Алины Улановой). С другой стороны – на художественное выявление в нём человека вообще, то есть начала не только индивидуального, но и родового, регулярно поддерживая необходимую «внутреннюю меру» (Н. Д. Тамарченко) в соотношении этих аспектов. Можно говорить о том, что переживаемые героями монодрам кризисы всегда связаны с выявлением некоторой общей человеческой «участи». Всё, происходящее с героями, таким образом, может быть спроецировано на жизненный опыт каждого человека (независимо от его возрастных, половых и социальных характеристик).
Не случайно, к примеру, исполнителем слов ЕГО (формально лица мужского пола) в драме Екатерины Задирко «Совершенный вид», как сказано в начальной ремарке, «может быть мужчина, и женщина». В драме же Александры Бабушкиной в финале пьесы слушателям предоставляется самим различать, кто говорит (Тэффи или та, что пишет о ней через сто с лишним лет диссертацию), поскольку «на тот момент это уже не важно». Произносимые слова может сказать как один, так и другой персонаж (независимо от того, в какое время он живёт), поскольку его опыт «перерастает» хронологические и пространственные границы, становясь универсальным. Таким образом, написанные участниками фестиваля произведения наглядно демонстрируют тезис В. Малкиной и С. Лавлинского о том, что текст монодрамы всегда «выступает в качестве „проявителя“ спрятанных, не актуализированных до поры до времени переживаний»11 самого читателя / зрителя. Поэтому в сценически эксплицированном кризисном опыте центрального персонажа монодрамы воспринимающий субъект, как в зеркале, должен увидеть, прежде всего, самого себя. Монодрама, действительно, становится «способом идентификации личности реципиента, которая возможна только через испытание встречей с Другим-как-с-самим-собой» (В. Малкина, С. Лавлинский)12.
Однако, думается, что от адресата требуется не только нравственно-этическая самоидентификация, но и эстетическая. К примеру, от того, какой вариант интерпретации слова «Бардо» выберет воспринимающий субъект, будет зависеть не только прояснение статуса происходящих событий, но и истолкование заглавия пьесы, а следовательно, её художественного смысла (что входит в кругозор не героя, а исключительно автора-творца и читателя / зрителя).
В связи с этим нельзя не отметить скрупулёзную творческую работу авторов с ремарками, которые практически в каждой из пьес обладают также высокой степенью провокативности по отношению к реципиенту. Таким образом, в драмах, опубликованных в сборнике «Как в зеркале», находит своё отражение такая черта поэтики неклассической драмы (в том числе рубежа XX—XXI веков), как усиление перформативности зон «авторского» текста. В качестве примеров ремарок, стимулирующих активно-сотворческое соучастие адресата, приведём несколько. Из пьесы Екатерины Задирко: «Герой – он, но исполнителем может быть и мужчина, и женщина». Из монодрамы Анны-Марии Апостоловой: «Сцена оформлена как угодно, где угодно, кем угодно. Главное без акцентов. Оформление ровное и одновременно беспокойное». Из грациозно «сотканной» из цитат стихотворной драмы Виктории Малкиной: «Читает он или пишет? Спит или бодрствует? Говорит или слышит?». И т. д.
Именно поэтому выбор для презентации текстов, написанных участниками семинара, жанра читки (а не полноценного сценического разыгрывания) также представляется продуктивным, поскольку последний непосредственно связан с «отключением» плана внешнего (предметного) и соответственно концентрацией внимания воспринимающего субъекта на личной драме индивида, воплощённой в его слове.
Причём органичность читки проистекает в данном случае опять же из свойств поэтики опубликованных в сборнике произведений. Многие из них либо лишены декораций вовсе (как, например, пьеса Екатерины Задирко «Совершенный вид», в которой на сцене находится лишь стул, где сидит персонаж, адресующий своё слово зрителю и ещё «кому-то», или драма Виктории Гендлиной «Гегельянство хуже пьянства»), либо последние характеризуются чрезмерным минимализмом, что не случайно. Можно, видимо, говорить о том, что подробности обстановки в монодраме требуют от её автора особой продуманности. В произведении, в котором визуально-рецептивный акцент делается исключительно на развёртывании сознания центрального персонажа, его «жизненной правды», на каждую деталь предметного мира накладывается особая функция. Любой элемент сценического пространства здесь неизбежно расширяет свой семантический объём, имея непосредственное отношение к внутренней драме «единого действующего», а потому повышенно символичен. Следовательно, художественная «разработка» хронотопа, в котором локализован центральный герой монодрамы, требует от автора особых эстетических усилий.
С нашей точки зрения, очень тонко такая работа с конкретной подробностью обстановки ведётся в пьесе Алины Улановой «Перекипающий чайник». Вполне ожидаемый атрибут кухонного пространства здесь становится по сути дела символом всего того, что происходит в пьесе, проекцией на её основную сюжетную ситуацию. При этом возникают смыслы, которые не входят в жизненный кругозор героини, но открываются воспринимающему сознанию. «Перекипающий чайник» в драме Алины Улановой можно рассматривать как символ так и не состоявшегося духовного единения / взаимодействия отца и дочери, постепенного взаимного «выкипания» их отношений. Подобно тому, как слова девушки, обращённые к папе, всегда улетают в пустоту, звонки по мобильному, в которых сообщается о необходимости помощи отцу, оказываются неуслышанными главной героиней. Вот почему в данной пьесе чайник как традиционный образ домашнего очага и уюта меняется на его мнимое подобие (по словам героини, это «нечто», так что знакомые «даже не сразу понимают, что это просто чайник»).
Ещё один пример семантически точной работы с деталью предметного мира – пьеса Дмитрия Арчакова «Похмелье». Здесь необходимость развёртывания всего происходящего в конкретных условиях художественного пространства (поэтому подробно описывается стройка, а также то, что герой как бригадир-строитель делает) связана с созданием ценностно-смысловой дистанции между автором-творцом и героем. Приведём один из фрагментов пьесы целиком.
Михаил. Так что не пизди мне здесь. Россия встаёт с колен!
Улыбаясь, Михаил начинает подниматься. Он начинает подниматься. Он не может устоять и по инерции наступает одной ногой назад… Михаил летит головой вниз, ударяясь об стену, переворачивается и падает на бетон боком.
В данном случае налицо «чеховское» несовпадение между словом и действием (совершённым хоть и не по воле героя). Если первое предложение ремарки соотносится с репликой персонажа (он «поднимается» после фразы о «вставании» России с колен), то последующая часть вступает в очевидное противоречие с высказыванием Михаила. Вместо «подъёма» – падение, причём в «пропасть» («останавливаясь перед пропастью в последний момент»), что символично. В итоге слова бригадира о «воскрешении» страны начинают восприниматься не более чем комически и вступать в конфликт с оценкой происходящего автором-творцом (и соответственно читателем / зрителем).
Мы не случайно значительную часть статьи о книге «Как в зеркале» посвятили описанию особенностей поэтики рассматриваемых пьес. Это позволяет нам прийти к заключению, что такого рода творческие фестивали-лаборатории, действительно, могут считаться одной из продуктивных форм освоения художественного языка литературного произведения и его различных типов, в данном случае – монодрамы. Следовательно, предложенные В. Малкиной и С. Лавлинским формы деятельности просто необходимы литературному образованию и могут быть актуализированы не только в работе со студентами, но и со школьниками. Чувствующийся неподдельный интерес авторов к написанию своих, оригинальных, текстов, неформальная работа над ними, как и лишённая «псевдоакадемической серьёзности» перформативная презентация, могут служить опровержением распространённых в педагогических кругах патриотически-пессимистических настроений, что молодёжь не читает, не хочет заниматься литературой и пр. Поэтому весьма символично, что сборник «Как в зеркале» завершается пьесой Сергея Лавлинского, в которой среди других персонажей в гротескно-сатирической тональности изображаются именно так мыслящие учитель литературы, критик и чиновник отдела образования.
Вот почему хочется пожелать инициаторам этого научно-креативного образовательного проекта Виктории Малкиной и Сергею Лавлинскому дальнейших успехов на этом, воистину рок-н-рольном, поприще.
Андрей ПавловМонодраматическое путешествие, или Рок-педагогика в действии
Себя как в зеркале я вижу…
А. С. ПушкинКак научить?
Сделать так, чтобы учились.
Учили себя.
Задавали вопросы, искали ответы, ошибались, пробовали, терпели поражения, одерживали победы, находили свои дороги и взбирались на новые вершины.
Зачем тогда преподаватель?
Чтобы идти рядом. Вместе, как известно, шагать весело. И интересно. И полезно.
Об одном таком путешествии мы и хотим вам рассказать. Оно осуществилось в рамках спецсеминара «Визуальное в литературе», вот уже три года действующего на историко-филологическом факультете РГГУ.
Итак…
Есть такое явление – монодрама.
На рубеже последних столетий не только среди драматургов, театральных режиссеров, но и среди читателей/зрителей возникает особый интерес к произведениям, написанным либо в композиционно-речевой форме развернутого монолога, либо серии подобных монологов (или же диалогизированного монолога). В современном театральном пространстве получили особую популярность и регулярно проходящие на различных площадках фестивали «новой монодрамы». Термин «монодрама» все чаще появляется в работах исследователей современной драматургии. В готовящемся «Экспериментальном словаре новейшей литературы» имеется содержательная статья Н. А. Агеевой и О. С. Рощиной о монодраме13, учитывающая опыт исследования новейших драматургических текстов не только отечественными литературоведами, но и зарубежными.
В самом общем смысле монодрамой принято называть драматургическое произведение, в котором используется развернутый монолог (или серию монологов) как основную композиционно-речевую форму. Исследователи монодрамы обращают внимание на её коммуникативный аспект. Отечественный театровед С. Мокульский считал, что монодрама – это «развернутый монолог, обращенный либо непосредственно к зрителю <…> либо к присутствующему безмолвному персонажу <…> либо к персонажу <…> находящемуся за сценой». Кроме этого монодрама всегда имеет гротескно-субъектную структуру: «единственный актер последовательно исполняет несколько ролей, соответственно изменяя свою наружность»14.
Особое значение для тех, кто жаждет разобраться в специфике монодрамы имеет концепция известного теоретика и реформатора театра серебряного века, драматурга и режиссера Николая Евреинова, автора знаменитого «Введения в монодраму» (первое издание появилось в 1909 г.). Её-то мы со студентами специально и осваивали на занятиях спецсеминара. Особую роль обращали на положения концепции Евреинова, согласно которым читатель/зритель монодраматического произведения должен превратиться в иллюзорно действующего субъекта, но не в пассивного наблюдателя чужой частной жизни, как того требует «зрелищно-развлекательная» или «реалистическая» драма. По Евреинову, «эстетическая мощь истинной драмы» опирается на равенство переживаний по обе стороны рампы15. Гарантией же подобного равенства является вся сценическая структура монодрамы, которая направлена на экстраполяцию исключительно имагинативной сферы представленного в ней персонажа, его «внутренней» точки зрения (или «правды»): «спектакль внешний должен быть выражением спектакля внутреннего <…> переживание действующего на сцене, обусловливающее тожественное сопереживание зрителя, который становится через этот акт сопереживания таким же действующим»16.
Почти за век до появления современной драматургии, особое внимание уделяющей монодраматической форме, идея перформативной коммуникации активно проповедовалась Евреиновым. Монодраму характеризуют, по его мысли, изначальная «естественность», «спонтанность», «чистая театральность»17 текста, для конкретизации которого существенное значение приобретает механизм сопряжения в сознании читателя «внешней» и «внутренней» позиций, актуализация установок зрителя и слушателя, а также функций актера и режиссера.
Текст монодрамы (литературный и/или театральный) выступает в качестве «проявителя» спрятанных, неактуализированных до поры до времени переживаний читателя/зрителя. Монодрама становится способом идентификации личности реципиента, которая возможна только через испытание встречей с Другим-как-с-самим-собой.
Соответственно, монодраматизм в теоретической интерпретации Евреинова следует понимать как особого рода драматургический дискурс, выстроенный с учетом Другого (в одном случае подразумеваемого непосредственно, в другом – опосредовано)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
После фестиваля число смелейших увеличилось до тринадцати. (Прим. ред.)
2
См. об этом: Болотян И. М. Вербатим как теоретическое понятие (опыт разработки словарной статьи) // Новейшая русская драма и культурный контекст. Кемерово, 2010. С. 103.
3
Цитируется по: Синицкая А. В. Театр для всех: между словом и изображением // Как в зеркале. М., 2015. С. 8.
4
Хализев В. Е. Драма как род литературы. М., 1986. С. 108.
5
Костелянец Б. О. Драма и действие. М., 2007. С. 31.
6
Об этом свойстве драматического произведения см.: Тамарченко Н. Д. Пространство-время драматического действия и конфликт // Теория литературы. В 2 т. Т. 1 / под ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2004. С. 316.
7
Можно вспомнить такие, очень небольшие по размеру, монодраматические произведения, как «Госпожа Ленин» В. Хлебникова, «Глупец и Смерть» Г. фон Гофмансталя, «Путник» В. Брюсова, «Последняя лента Крэппа», «Зола» С. Беккета. И среди произведений современной драмы: «Дневник шахида» А. Молчанова, «Смерть Фирса» В. Леванова и пр.
8
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 541.
9
Там же. С. 420—421.
10
Белова А. Мнение зрителя-дилетанта // Как в зеркале. М., 2015. С. 5.
11
Малкина В., Лавлинский С. Монодраматическое путешествие, или Рок-педагогика в действии // Как в зеркале. М., 2015. С. 11.
12
Там же.
13
Агеева Н. А., Рощина О. С. Монодрама // Поэтика русской драматургии рубежа XX—XXI веков: сб. научных статей. Вып. 3. Кемерово, 2012. С. 214—218.
14
Мокульский С. Монодрама // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 7. М., 1934. Стлб. 457.
15
Евреинов Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002. С. 99.
16
Там же. С. 105.
17
Наверное, её-то и можно считать собственно перформативностью – возможностью здесь-и-сейчас в процессе исполнения чужого действия становиться Другим.