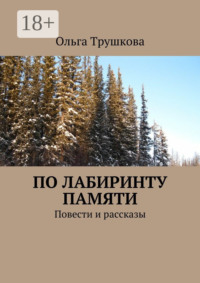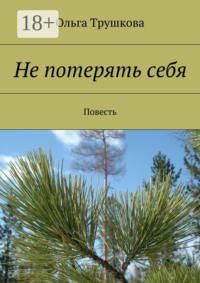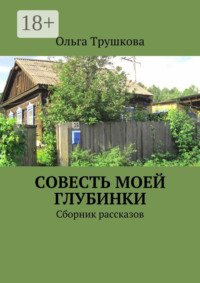Полная версия
От истока до устья. Повесть и рассказы
А как он поглядел на меня, когда я сдуру ляпнул про то, что Петьку прикончил бы! Тут и про Дарью не забыл помянуть, пёс шелудивый! Неужто понял, что я тогда… на охоте…? Ведь жакан-то мой тогда куда-то бесследно исчез. Куда?
А вдруг он знает и о том, что произошло в Малой Елани в сентябре девятнадцатого? Да нет, откуда! Свидетелей-то не осталось.
Конечно, нет… Конечно, про Малую Елань Гришка не знает, он просто не может знать…».
Действительно, Григорий Перегудов ничего не знал ни про Малую Елань, ни что там произошло в памятном для Савелия сентябре девятнадцатого.
Глава 4
А ведь, казалось бы, совсем недавно Савелий Иванихин и Петька Громов были не разлей вода, будто ещё вчера бегали в ближайший лесок за грибами и ягодами, удили в Быстринке рыбу. Дядька Северьян, которого Савелий почитал за отца, научил их точить пилы, делать топорища, плести корзины, вырезать из берёзовых поленьев ложки, а из бересты мастерить туески и прочую посуду.
Но больше всего нравилось Савелию делать посуду из глины. Он быстро освоил премудрости работы на гончарном круге и сначала под присмотром Северьяна, а вскоре и самостоятельно производил на свет такие горшки, чашки, кружки и кринки, что сам учитель диву дивился способностям своего ученика. Правда, обжиг пареньку он ещё не доверял. Рано, говорил. И напрасно. У Савелия и обжиг получился бы хороший.
Потом все берестяные и глиняные изделия Северьян вёз на базар. На деньги, вырученные от продажи посуды Савелия, покупал и привозил Иванихиным то, что заказывала мать.
Никифор Иванихин, родной отец, домой редко наведывался, всё больше в городе околачивался. Чем он там промышлял, никто не ведал, но прошёл слух, что между первой и второй революциями посадили его в кутузку. Так и пропал папаша, ни слуху ни духу о нём по сию пору. Правда, теперь поговаривают, что посадили его за революционную деятельность, за правое дело, мол, пострадал. Но жители Преображенского имеют большое подозрение, что слухи о страдальце за народ сильно преувеличены и распускает их не кто иной, как его сынок Савелий.
Правду о Никифоре Иванихине знали только Северьян и Тарас Громовы.
В конце лета того самого междуреволюционного года Северьян поплыл на своей плоскодонке в уездный город на ярмарку продать мёд, посуду да запастись к зиме спичками, керосином, дробью, порохом и прочим необходимым. Торговля шла бойко, продукцию Громовых в уезде знали и ценили по достоинству. Вдруг мимо прилавка пробежал околоточный надзиратель Иван Степанович. Ну, пробежал и пробежал. Чего, казалось бы, удивительного? Не иначе, за каким-то лихоимцем гонится. Вороватого люда и в базарный день здесь полным-полно, а тут – ярмарка!
Северьян знаком с Иваном Степановичем, тот постоянно у него что-нибудь покупает. Вот и сегодня Северьян приготовил ему туесок мёду.
Вскоре околоточный опять появился. Нет, на сей раз он не бежал, а просто шёл. Под ручку с Никифором Иванихиным. Под другую ручку Никифора держал жандарм.
Подивился Северьян увиденному, попросил соседку по прилавку приглядеть за его товаром и поспешил за ними. А в участке-то и выяснилось, чем занимался Никифор Иванихин. Оказалось, что он с шайкой таких же, как сам, обворовывал квартиры и что двумя днями назад они совершили разбойный налёт на ломбард. Ладно бы, просто ломбард подчистили, а то ведь убили сторожа!
– Может, это ошибка? – с надеждой в голосе спросил Северьян. – Может, там кто-то другой был, не Никифор?
– Нет, не ошибка. Тех троих мы взяли по горячим следам, и они уже сделали признание. Это за Никифором Иванихиным пришлось два дня бегать, – ответил околоточный надзиратель.
Он отёр с одутловатого лица пот, тяжело вздохнул и устало спросил:
– Ты, Северьян Николаевич, что-то ещё хочешь узнать?
Тот, потрясённый услышанным, отрицательно покачал головой и вышел. Было такое ощущение, что это не Никифор Иванихин, а он, Северьян Громов, постоянно обворовывал чужие квартиры, а два дня назад ограбил ломбард и убил сторожа.
Об этом Северьян рассказал только старшему брату Тарасу. Вдвоём они решили никому ничего не говорить, не позорить перед народом ни в чём не повинную Анисью и её малых деток.
А Савелия с той поры стали опекать уже с двух сторон, чтобы не дать ему пойти по пути неразумного батюшки своего и не скатиться в пропасть.
Анисья Иванихина, тихая, забитая нуждой женщина, была бесконечно благодарна Громовым и за внимание к сыну, и за бескорыстную помощь. Не оставляли они немалое семейство Петькиного друга: то муки подкинут, то возок-другой дровишек привёзут. Они и мёдом угостят, и одежонкой ребятишек одарят, которая их детям маловата станет. А бабка Параскева врачевала всех Анисьиных деток вместе с ней самой и даже спасла маленькую Нюрку от глотошной. Разве могла бы Аксинья без Громовых с нуждой справиться, если кроме старшего Савелия в семье было ещё трое детей?
Но не ведали добрые люди, какую змею пригрели, и лишь когда выкормленная и выпестованная ими ядовитая гадина начнёт смертельно жалить их детей и сводить под корень род Громовых, тогда и раскроет Северьян тайну о Никаноре Иванихине,
Глава 5
Время шло. Подросли Савелий и его друг Петька, в тайгу стали ходить не только за грибами-ягодами, но и на охоту. Правда, они пока только петли на зайцев ставили да зазевавшуюся птицу с дерева выстрелом снимали. Но и это семье подмога, заяц и птица – тоже мясо, а из заячьих шкурок тётка Параскева шапки и рукавицы шила. Всем. И Громовым, и Иванихиным.
А однажды Громовы взяли Савелия с собой на шишкобой. Правда, колотом бить ему не дозволили, определили только упавшие шишки собирать. Но в кругу-то друзей можно и преувеличить свою значимость в этом деле. Кто ж проверит?
Ох, и много же они в ту осень орехов заготовили! Тогда-то впервые узнал Савелий, что кедровые орешки пригодны не только для баловства да чтобы девок угощать. Из них, оказывается, можно масло выжимать. Даже приспособление для этого имеется. А масло это не только для пищи пригодно, им многие болезни лечат. Бабка Параскева сулилась потом объяснить, какие из него лекарства получаются и как их делать.
Целый день крутили парни по очереди ручку старой «маслобойки», смастерил которую ещё Петькин прадед Владимир Громов, а вечером Савелий гордо вручил матери туесок драгоценного продукта.
Хорошо ребята дружили, друг за дружку горой стояли и были почти неразлучными. Если где-то в толпе увидишь густые смоляные кудри Петра, тут же найдёшь и рыжеватую шевелюру Савелия. Надо только глаза вниз опустить, Савелий-то на полголовы ниже будет. Да и статью жиже. Хотя тоже красив собой. Озорная белозубая улыбка не одну девку с ума свела. А ещё он, в отличие от немногословного Петра, невероятно речист. Может, и не прервалась бы их дружба, но…
Как вошли парни в юные года, начали на вечёрки шастать да на девчат пялиться. И надо же такому случиться, что вдвоём на одну и ту же уставились. Как будто ничего особенного в ней и не было, а вот манила этих парней Дарья, ровно огонёк в ночи. Хотя, по правде сказать, изъянов в ней тоже не наблюдалось. Ладная девка, осанистая, черноглазая, русая коса толщиной в руку ниже пояса спускается. А уж какая озорная, какая плясунья да певунья! Впрочем, в Преображенском почти все девки ей под стать, но на других ни Пётр, ни Савелий даже глядеть не желали. Одна она нужна, причём сразу обоим.
Пётр-то, когда понял, что не только ему, но и Савелию Дарья поглянулась, так сразу в сторонку отошёл – не гоже другу дорогу переходить. Он уже и на Дарьину подружку стал поглядывать, даже до дома наладился её провожать. Только вот Дарья не захотела принимать ухаживаний Савелия, всё больше на Петра взгляды бросала. Так и провожались, Савелий с Дарьей и Пётр с её подружкой, благо дома девчат стояли через дорогу. Неделю ходили, наверное.
Но Петру не захотелось морочить девчонке голову, тем более, та уже вообразила себе невесть чего и, кажись, даже сватов начала ждать. В общем, перестал Пётр провожать Дарьину подругу.
Савелию тоже надоела неопределённость в отношениях со своей возлюбленной, вознамерился он поговорить с девушкой начистоту, заодно и замуж позвать, а в случае отказа взять её силой. «Не захочет по-хорошему, сделаю по-плохому, но своего добьюсь! – решил он. – После этого „по-плохому“ она сама за мной будет бегать и умолять, чтобы женился!»
Улица уже погрузилась в сон. Савелий проводил девушку до калитки и приступил к осуществлению задуманного.
Первый план, который «по-хорошему», с треском провалился – Дарья наотрез отказалась выйти за него замуж.
Савелий начал выполнять план второй, который «по-плохому». Он прижал девушку к забору и попытался сорвать с неё одежду. Она вырывалась, но почему-то не кричала и не звала на помощь. «Странно, – подумал Савелий. – Может, она только для виду сопротивляется?» Эта приятная мысль притупила его бдительность, и он ослабил хватку. Воспользовавшись удобным моментом, Дарья ловко нанесла парню удар в самое уязвимое место.
На душераздирающий вопль Савелия из дома выскочил брат Дарьи и, догадавшись, в чём дело, окончательно добил бедолагу. Нет, брат ударов не наносил. Брат просто ржал. Но ржал так, что на его ржанье откликнулась соседская кобыла, а сами соседи зажгли свет.
Дарья помогла Савелию распрямиться, поправила его парадный пиджак и, вздохнув, произнесла;
– Не ходи ты за мной больше, Христа ради прошу, не ходи! Ты хороший парень, но не люблю я тебя.
– А кого ты любишь? Петьку, что ль? – то ли спросил, то ли просто буркнул задетый за живое парень.
Девушка ничего не ответила, только ведь Савелию и так было известно, кто его соперник.
Отступиться бы ему от Дарьи, ан нет!
Вот если бы не было Петьки… Вот не было бы его в Преображенском…
Хотя, нет. Даже если Петьки не будет в селе, он всё равно где-то будет. А что это значит? А значит это одно: Дарья будет по-прежнему его любить.
Вот если бы Петьки вообще не стало!
Подумал и содрогнулся. Господи помилуй! Неужели я желаю другу смерти? Нет-нет! Грех!
Но эта мысль, как червь, всё глубже и глубже проникала в сознание Савелия. Она точила его, не давала ни есть, ни спать. В конце концов, парень убедил себя, что смерть друга явится благом и для Дарьи, которая сохнет по Петьке, и для Савелия, который сохнет по Дарье.
А вскоре и случай удобный представился.
Перед самой Филипповкой Пётр позвал Савелия пройтись до зимовья, проверить, не нужно ли чего там оставить, а заодно и петли разбросать на зайцев.
До зимовья добрались быстро. Спички, дрова, щепа и подвешенные к потолку мешочки с продуктами – всё было нетронутым. Двинулись дальше.
Савелий сделал вид, что поправляет крепление на лыжах, приотстал и, спрятавшись за густую ель, начал ловить Петра на мушку. Ружьё ходило ходуном в дрожащих от страха руках, он боялся убить, он никогда не стрелял в человека. Но ведь выстрелить в человека – это одно, и совсем другое – убить Петьку. Петька не человек, он соперник. Одно нажатие на курок, и Дарья твоя… твоя… твоя!
Господи! Как же трудно нажать на него!
– Эй, паря! Ты окаменел, что ли? И в кого целишься?
От неожиданности Савелий вздрогнул и нажал на курок. Пуля попала в берёзу и расщепила её напополам.
– Ого, с какими зарядами мы ходим! Не на медведя ли охотиться собираемся?
Савелий оглянулся. За его спиной стоял Григорий Перегудов.
– Са-а-в- к-а! – совсем близко раздался отчаянный крик Петра. – Ты где?
– Да здесь я, здесь…
Раскрасневшийся то ли от быстрого бега, то ли от внезапного волнения Пётр переводил тревожный взгляд с Савелия на Григория.
– Я сначала свежую лыжню справа увидел, потом силуэт. И тут – выстрел. Я за Савку так испужался, ажно руки затряслись, потому и тебя, Гриня, за деревьями не разглядел. Мало ли лихих людишек в наших местах бродит?
Пётр зачерпнул горсть снега и отёр потное лицо.
– А стрелял-то кто?
– Да я стрелял. Хотел прицел проверить, а тут откуда ни возьмись Гришка появился, – зачастил, подхихикивая сам себе, Савелий.
Григорий внимательно посмотрел на него и обратился к Петру:
– Петь, а у вас чем ружья-то заряжены?
– Как, чем? – удивился тот. – Дробью, конечно. Не на зверя же охотиться шли, чтобы пулями стволы забивать. А птичкам да зайчикам и пары дробин хватит.
– Ну-ну, – Григорий опять посмотрел на Савелия и сказал, обращаясь к Петру: – Будь осторожнее. Мало ли чего. Гляди в оба!
– Да ладно! – беспечно отмахнулся Пётр. – Впервой что ль нам по тайге хаживать?
– Впервой или не впервой, а гляди в оба, – настойчиво повторил Григорий. – Сам же сказал, мало ли лихих людишек в наших местах бродит? Правильно я говорю, Савелий? А?
Тот молча кивнул головой.
Когда Пётр и Савелий скрылись за густыми ветвями сосен, Григорий подошёл к поверженной берёзке и охотничьим ножом выковырял застрявший в ней жакан.
Нет, сегодня Савелий Иванихин шёл охотиться явно не на птичек и зайчиков.
Глава 6
Воронок давно уже изучил дорогу к покосам Громовых, поэтому вожжи были почти без надобностей. Лишь на развилках дорог дед Тарас чуть пошевеливал ими, направляя умное животное то вправо, то влево. А подгонять коня так и вовсе не требовалось, он знал свою работу и выполнял её на совесть.
Женщины лузгали семечки, Василий задумчиво жевал травинку пырея, и каждый думал о своём.
Глаша, жена Фёдора, старшего сына Ильи Тарасовича, прикидывала в уме, оставлять или нет в зиму Зорьку, дочку Марты. Продавать жалко, из неё хорошая коровка должна получиться. Но ещё жальче пускать под нож – Зорька была стельной. Конечно, лучше бы оставить, однако всё чаще и чаще звучит в их тихом селе пугающее всех слово «кулак». Что оно означает, Глаша толком не знает. Знает лишь, что «не кулак» – это лодырь без кола и двора, их в Сибири «февралями» кличут. Как-то странно получается. Раньше тот, кто работал от зари до зари, в почёте был, а теперь трудиться в поте лица и увеличивать своим же трудом нажитое – себе дороже.
Настя представляла, как она сегодня вечером скажет Ване о том, что, наконец, понесла и будущей весной у них народится долгожданное дитятко. Бабушка Параскева уже позволила ей сообщить эту благую весть, но только мужику. Остальным говорить ни-ни! Это чтобы, тьфу-тьфу, не сглазили.
Молодая женщина почти год ходила порожней, сильно переживала по этому поводу, даже до отчаяния доходила. Только увещевания бабки Параскевы, что так бывает, что придёт и Настин черёд стать матерью, вселяли надежду. И вот, наконец-то, Настя понесла. Правду сказывала бабушка, черёд пришёл.
– Дед, а ты любил, когда молодым был? – нарушил молчание Василий.
Дед Тарас искоса посмотрел на внука улыбающимися глазами.
– А я, Васятка, и по сённи люблю.
Василий едва не подавился травинкой. Ничего себе! Такой старый, а любит!
– Кого любишь-то? Бабушку Параскеву?
– Да вот всех вас и люблю.
– А бабушку? Ты что, до сих пор любишь бабушку? – не унимался настырный внук.
– Конешне, люблю. А как мне её не любить? Она моих сынов народила и всю мою жизню подпоркой была.
Василий представил, как маленькая бабушка Параскева подпирает почти двухметрового деда Тараса, и улыбнулся.
– Дед, а сколько живёт любовь?
Василия этот вопрос очень интересовал. Он знает, что она приходит, уходит, иногда задерживается
– По-всякому, Васятка. У кого-то – одну ночь, а у кого-то, как вот у меня, цельный век проживает.
Бедный дед Тарас! Любить цельный век – это уж слишком! Хотя с бабушкой Параскевой дед, наверное, не страдал. С такой любовью и Василий согласен весь век жить. Однако Тоня совсем не похожа на бабушку. Как с Тоней-то целый век жить? Ежели она уже сейчас каждую свиданку в комсомольское собрание превращает, то, ставши женой, всю их совместную жизнь сделает одним бесконечным политическим пленумом со всеми ихними дебатами и прочей пустопорожней болтовнёй.
Из-за бугра выплыли верхушки зародов. Воронок перешёл с мелкой рыси на ходьбу, преодолел возвышенность и дальше пошёл уже степенным шагом. Дед Тарас не торопил коня. «Успеем, – решил он. – Солнце до полудня ещё более часа будет добираться, да и роса сегодня обильная, пусть ветерок по рядкам подольше погуляет. Не дай бог сырой травинке в зарод попасть, весь зарод сгниёт!»
Меж тем Воронок втянул телегу в густую тень раскидистых берёз и остановился прямо у шалаша. Всё. Приехали.
Василий распряг коня, отвел его поближе к речной пади, стреножил и, ласково потрепав его холку, пустил кормиться. Вернувшись к телеге, он взял маленький топорик и пошёл в лесок готовить хворост для костра.
Настя схватила ведёрный чайник, побежала к Быстринке набрать воды, а по пути нарвать для послеобеденного чая листьев смородины и кипрея да заодно посмотреть, хорошо ли вызрела за эти дни малина. Ваня сказывал, что когда косили, зеленовата ещё была. Жаль, что косить сено Громовы девок не берут, только грести. Косить Настя умеет. Она до замужества завсегда отцу помогала. И мама косила. Но у Громовых иначе заведено.
Глаша внесла в шалаш сумки с едой, всё аккуратно разложила и накрыла чистым полотенцем. Глиняную кринку с молоком и жбан с квасом обложила сырой травой, чтобы подольше холод держали – день-то жарким быть обещает. Потом взяла в руки грабли и начала торопко сгребать в валки слежавшиеся сенные ряды.
– Не части так, – остановил её подошедший уже с граблями в руках дед Тарас, – умаешься ране сроку. Чай, и без спешки управимся.
А тут и Настя с Василием присоединились к ним. Работа шла дружно, споро, и спустя три-четыре часа сено уже дозревало в валках.
– Перекур, – объявил дед Тарас и первым направился к шалашу.
Настя весело рассмеялась.
– Дедушка, ты же не куришь.
– А пошто мне дымом нутро травить? Сам не курю и другим не велю.
– А я слыхивала, что в городе даже бабы курят. Врут, однако.
Дед Тарас неопределённо пожал плечами и промолчал. Видеть курящих баб ему пока не доводилось.
– Не врут, – вклинился в разговор Василий. – Я сам одну мадаму с папиросой в зубах видел, когда с батей в город плавал. Папироса длинная-длинная, в деревянную трубку вставлена.
– Фу, гадость какая, – брезгливо колыхнула крутым плечом Глаша. – Как таку безобразию ейный мужик терпит?
Поскольку про «ейного мужика» и про то, как он терпит «таку безобразию», Василий ничего не знал, то тема курения закрылась сама собой.
Первым делом развели костёр и подвесили над огнём чайник. А тут и Воронок заржал, мать свою почуяв. Вскоре на взгорке показались трудяга Ланюшка, телега и трое мужиков.
– Ну, помоги, Боже!
Перекрестившись, дед Тарас первым поднялся из-за импровизированного обеденного стола и взял в руки грабли. За ним поднялись все остальные. Ставить зарод – дело непростое, тут одной силы мало, без умения не обойтись. Но в роду Громовых сыновей этому искусству обучали едва ли не с пелёнок. Самое главное даже не сам зарод правильно поставить, а умело его завершить, чтобы он дождь не пропустил и в ураганный ветер выстоял. А иначе все труды насмарку, сгорит сено. Нет, не огнём – гнилью.
Как-то раз доверил Тарас несмышленым тогда ещё сынам своим самим остатки сена сложить, подробно объяснил, как это делается, а сам дома остался спиной маяться. Думал, что справятся. Не в зарод же складывать, а только в копну. Зароды-то уже поставлены.
Сложили ребятишки остатки сена. Пришли домой, бахвалятся, что копна получилась большая, возовая. С конский воз, то есть. Этого корове с телком на месяц хватает.
«Хорошо ль утаптывали?» – пытает их Тарас. – «Хорошо, батюшка», – отвечают. «Правильно ли вершили копну-то?» – «Да, вроде правильно». «А причесать её не забыли?» – «Причесали, как ты сказывал».
«Вот и ладненько. Слава Богу, до дождя управились».
Управиться-то управились, а вот ладненько не получилось. Прошёл дождь, а потом установилась жаркая погода. Когда Тарасу чуточку полегчало, пошёл он проверять зароды, а заодно и копну. Зароды-то холодные, а к копне даже руку прислонять не надо, не то что внутрь просовывать. Парит копна, как каменка в бане, когда на неё кипятку плеснёшь. Горит без всякого пламени. Он копну разворошил, разбросал сено по сторонам, а через два дня привёл своих ребят и начал учить их уже не на словах, а на деле.
С той поры не одна вода в Быстринке сменилась. Выросли сыны. Двоих уж и на белом свете нет, с Гражданской не воротились. Остатний сын Илья по сей поре не только отцом стал, но и дедом. Уже и внуки деда Тараса ставить зароды обучены.
Но помнит он ту копну, из которой потом только копёшка получилась, потому что много сена прелью покрылось и вон выброшено. Помнит это и каждый год едет ставить зароды… Пусть не сам он вершит, а только пристально наблюдает, не кренится ли зарод в какую-нибудь сторону и хорошо ли набивают и утаптывают его чрево, то есть середину. Пусть Тарас только словом правит, но всё спокойнее у него на душе, если он сам за этим проследит.
Сено собрали в копёшки, которые с помощью Воронка и его мамы Ланюшки волокушами стащили к месту будущего зарода. Началась самая ответственная часть работы. Братья метали сено, Глаша, Настя и Илья ровненько раскладывали его по длинному прямоугольнику и тщательно притаптывали.
– Иван, ты что, совсем свою половину не кормишь? – вонзая вилы в копёшку, засмеялся Фёдор. – Чем ей сено-то уминать? Своим бараньим весом?
– Зато ты свою Глафиру так раскормил, что Настин вес там без надобностев, – улыбнулся Иван и крикнул женщинам: – Вы, девоньки, почаще местами меняйтесь, а то зарод криво выведете.
Глаша и впрямь после вторых родов раздобрела, хотя и в девках была весьма справной. Красавицей её не назовёшь. Нескладная, сутулая, ростом чуть ли не с Фёдора, вся в веснушках от макушки до пят, будто под решетом загорала. В селе по сию пору дивуются, как это ей удалось такого парня захомутать? Фёдор-то вон какой баской! А вот, поди ж ты, взял за себя страхолюдину.
Самое интересное, что и Варвара тому не перечила, а бабка Параскева Глашу иначе, как наше Солнышко, не называет. За веснушки ли, которыми всё её лицо усыпано? За улыбку ли, от которой всё вокруг светлеет?
Многие считают, что Глашу в свою семью Громовы взяли только за то, что силы в ней не менее, чем у мужика. Для работы взяли. Кто-то бает, что без ворожеи тут не обошлось: опоили, мол, Фёдора водой наговоренной – и весь сказ! И невдомёк им, что любит Фёдор свою Глашу и не променяет её ни на какую раскрасавицу. Да и всё Громовы любят её за чистую душу, доброе сердце и покладистый характер.
Илья и Фёдор вершили зарод, дед Тарас его «причёсывал». Женщины подбирали упавшее сено, Василий с Иваном забрасывали остатки наверх.
– Всё, – крикнул Илья, – Васятка, кидай нам верёвку, мы слезаем.
– Берегись! Кидаю!
Василий раскрутил верёвку с привязанным к ней грузом и ловко забросил на зарод.
Солнце уже заходило за горизонт, когда Громовы, усталые, но довольные, возвращались домой.
Илья думал о том, что скоро надо рассчитываться по самообложению… что скоро придёт срок качать мёд, что…
Василий думал о предстоящем свидании с Тоней, и сердце его ёкало и замирало…
Дед Тарас общался с Богом.
«Спасибо тебе, Боже, за то, что даёшь мне силы и время полюбоваться на детей моих, внуков и правнуков! Спасибо тебе, Боже, за то, что все Громовы живут трудом своим и по совести! Слава тебе, Боже…»
Он никогда ничего у Него не просил. Он всегда только благодарил Его и славил.
На телеге Ивана тоже царило молчание. Конём правила Глаша, а Фёдор, привалившись к её мягкому плечу, слегка подрёмывал.
Иван искоса посматривал на непривычно молчаливую сегодня Настю и нешуточно тревожился. « Вялая, бледная, круги под глазами. Что это с ней? А как её вчера, после ужина, над ведром наизнанку выворачивало! Неужели отравилась солёными ельцами? Вообще-то, от них её никогда не рвало».
Мысль о том, что его Настя отравилась да ещё неизвестно чем, повергла Ивана в неописуемый ужас. По спине холодными каплями потёк пот.
Нет-нет! Только не это!
Глава 7
Настя прошла в горницу и с таинственным видом поманила к себе мужа.
Он вошёл.
– Вань, я тебе чего сказать-то хочу…
Она подняла на мужа свои зеленовато-серые чуть раскосые глаза и тут же смущённо потупилась.
– Говори.
– Меня утром опять стошнило, как вчерась.
Иван испугался.
– Опять? Ты снова ельцов наелась? Сей же минут выкину их борову! Отравилась, поди?
Настя помотала головой.
– Нет, это не от них. Я сразу же к бабушке Параскеве побежала, всё ей обсказала, а она говорит, что я… это…
Настя опять стушевалась, покраснела до корней волос и стала теребить переброшенную на грудь косу.