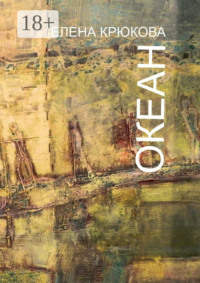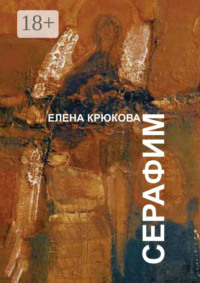Полная версия
Старые фотографии
Играю и пою, что в голову взбредет:
― Плыву я в легкой лодке ―Ты солнце лови!Плыву я в легкой лодкеНавстречу любви…Пальцы поднимаются и опускаются. Пальцы грызут и прогрызают клавиши. Внутри пальцев натягиваются и загораются тонкие длинные волокна, по ним горячо и опасно течет музыка: чем дольше я играю, тем свободнее она течет, и вот я достигаю момента, когда я свободно дышу, руки великолепно и свободно летают над клавишами, ноты отдувает нездешний ветер, и я слышу и вижу все то, что невозможно услышать и увидеть в обычной жизни. Волосы будто вздувает вихрь. Спину царапают когти мороза. Зеркала передо мной нет, но я знаю, глаза горят. Может, я уже огонь? Кто меня потушит?
А пианино деревянное; оно того гляди загорится под руками.
Бетховен, это Бетховен. «Лунная соната». Первая часть. Ночь за окном. Ночь над городом Горьким. Горький город, а раньше был город Нижний. Горький, Нижний. Горечь и низы. До-диез-минор, под пальцами поет сердце человека, что оглох, не слышал музыки и умер давно. Очень давно. Когда меня еще не было на свете.
А когда я – стала быть?
Запястья занемели, устали. Я выдохлась. Семь потов сошло. Играть на фортепьяно только с виду легко. Клавиши такие тугие, не прожмешь. И на педали ногами надо нажимать. У меня ноги не достают до педалей, и под ноги я подставляю себе скамеечку. Ее папа сколотил из распиленных подрамников.
Все, надоело. Хватит. Музыка обрывается, серебряная нить. Будто порвали леску ожерелья, и рассыпались бусины. Теперь их найдут мыши. Или крысы. Мы живем на втором этаже двухэтажного деревянного дома; к жителям первого этажа крысы приходят – к тем, у кого нет кошки. Моя черепаха лучше кошки: она молчит и смотрит добрыми печальными глазами. Она говорит глазами: «Я все равно усну, а когда усну, не будите меня».
Я вылезаю из-за пианино. Осторожно закрываю крышку. Прокрадываюсь в кладовку. Нюхаю рыболовецкие снасти отца. Пахнет рыбой, песком, солью, табаком. Потом лезу в шкаф. Там папины краски, кисти, эскизы, этюды на квадратных картонках. И запах тут другой: смесь скипидара, льняного масла, растворителя по кличке «пинен», подсыхающей, засыхающей, умирающей плоти плотных, упругих, толстых мазков. Этюдов много, они лежат штабелями и стоят стоймя. Я беру их в руки и раскладываю на столе, как игральные карты. Царапаю ногтем засохшую масляную краску. Синее, алое, белое, болотное, ржаное, медовое, золотое, грязное, чистое мешается, переливается, вливается одно в другое, рябит и пестрит, и бьет по глазам, и полосует цветными плетьми лицо. Мир – цвет. Мир – боль. Мир надо запечатлеть, оставить. Отец оставляет его. Для кого?
Дикая мысль пронзает: если отец умрет, все этюды выбросят на помойку.
Как выбросили на помойку картины Льва Францевича Литвинского, когда его мастерская сгорела. Я видела: они лежали около мусорных ящиков, и никто их не подбирал; не собирал, как грибы.
«Нет! Мама спасет! Мама все сохранит!»
Пляска красок перед глазами – не остановить. Я закрыла глаза. Вскочила со стула. Накрыла все этюды шелковым китайским покрывалом – сдернула с родительской постели. Покрывало зеленое, атласное, изумрудное, по нему плывут вышитые серебряные лилии и снежные хризантемы, летят золотые птички, раскрывают клювики. Мне оно кажется царской роскошью.
Музыка музыкой, а голод не тетка! На подоконнике сковорода, и, приподняв чугунную крышку, лезу в нее за холодным беляшом. Съела – и нахально вытерла жирные пальцы о байковый халатик. Лень полотенце взять? Это не лень, а легкий, как мятный морозец, страх. Натянула на ноги толстые вязаные носки. Дрожу. И стекла в пазах дрожат: по мостовой протарахтел грузовик. Он везет в кузове души умерших, души ушедших. Куда? В лес под елку? Под лед на реку? На вершину горы, под черные облака? Колеса трясутся на булыжниках. Это земля, а не Рай. И никого не спасут. Хоть я сейчас и в Раю живу.
Только я не знаю об этом.
Шуршание. Я вздрагиваю. Пот течет по спине.
Это моя черепашка медленно, важно идет у меня под столом, под ногами.
Тыкается головой мне в щиколотку.
Я беру ее в руки, глажу, дышу ей на панцирь.
– Ты моя милая… ты моя хорошая… живая…
Все живое. Папины этюды живые. Они шевелятся и горят. Часы живые. Морозные узоры живые. Свет мигает. Ноты ползут со страниц, с сумасшедших нотоносцев. Мне страшно. Мне больно!
Раскутала этюды, как младенца распеленала, пупса резинового, сыночка. Вернула покрывало на кровать. Взмахнула им, и вспыхнуло оно лучом зеленым, морским.
Подхожу к зеркалу, медленно и важно, ступая, как царевна. Мне не страшно. Мне не больно. Я царевна, дочь красивой царицы. У меня в сундуках сокровища. Я живу в Раю, и Райские деревья надо мной, вон качаются в окне, ссыпают на меня серебряную пыльцу, и золотые и синие Райские бабочки садятся мне на плечи, и я не отгоняю их. Вокруг меня музыка, вокруг меня все звучит, поет, дышит и хорошо пахнет. В Раю я всегда сыта и любима. У меня всегда есть в Раю на завтрак кофе со сливками, на обед – куриная котлетка, а на ужин, по праздникам, бутерброд: белый хлеб и паюсная черная икра. Икру мама покупает на хитром рынке по десять рублей килограмм. В Раю обязательно должна быть икра, как же без икры? Это любимая пища ангелов.
Из зеркала на меня глядит царевна. У нее расплелись косы, расстегнулся халатик, и из-под халатика смешно, врастопырку, торчат худые ножки в шерстяных зимних чулках и отороченных мехом тапочках. Царевна приседает на корточки, и я приседаю. Царевна берет с зеркала связку маминых поддельных жемчугов, и я беру. Царевна вывинчивает пробку из пузырька духов «Красная Москва». И я, неотрывно глядя царевне в глаза, прикасаюсь хрустальной пробочкой к мочке уха, к тощей шейке, к подбородку, к яремной ямке над расстегнутой перламутровой пуговицей халата.
Царевна надевает на шею жемчужные ледяные бусы, и я надеваю.
Царевна любуется мной, а я – ею.
Мы довольны друг другом.
Мы улыбаемся друг другу.
И потом я перестаю улыбаться – губы устают, и опять дрожь и страх щекотят сердце, а она продолжает улыбаться мне из зеркала, продолжает, продолжает.
И я отворачиваюсь. И зажимаю ладонями сначала глаза, потом – почему-то – уши.
Чтобы не слышать, что царевна мне сейчас скажет.
Но она молчит. Молчу и я. Мы обе молчим.
Мама в больнице. Папа в мастерской. Они работают. Трудятся. А я лентяйничаю, я ребенок, мне можно.
А я – ребенок или кто?
КТО Я?
Страшно и весело от вопроса, заданного самой себе. Волосенки шевелятся, коски приподнимаются с плеч. Кто-то невидимый, больше и сильнее меня, их тянет вверх.
– Чепа, ― говорю я черепахе, ― ты там не молчи под столом! Ты скажи мне что-нибудь!
Черепаха молчит. И я молчу.
Нам нечего сказать друг другу.
Все уже давно сказано за нас: тем Большим и Сильным, кто висит под потолком, под люстрой, и тихо трогает меня за тонкие нити спутанных нежных волос.
Что бы придумать, чтобы не было страшно?
Руки, отдельно от мыслей, уже открывают дверцы шифоньера. Там покойно и мирно висит мамина и папина одежда: костюмы, пальто и шубы, и рубахи на деревянных плечиках, и твидовые пиджаки, и вязаные юбки и кофты, и мамины летние платья из шифона и креп-жоржета, неприлично прозрачные, и под них мама сшила нижние юбки из чистого белого льна, чтобы не просвечивали ноги. Ноги у мамы красивые, очень красивые. Как у лежащей и спящей нагой женщины в альбоме отца «Диего Родригес да-Сильва-и-Веласкес. Живопись». Под спящей красавицей – надпись: «Венера перед зеркалом». Ангелочек, лукаво склонив головку набок, держит перед женщиной туманное зеркало в деревянной раме. Осеннее, дождливое озеро зеркала. Ветер и рябь. Стекло запотевает от вечного дыхания. В зеркале отражается лицо.
Это лицо матери.
Мамы, кого же еще?
Мама жила всегда, и Веласкес ее писал с натуры.
А потом на ней женился папа. Через триста лет.
Мамина шуба из золотистой китайской земляной выдры, совсем новенькая, пахнет зверем. Мамины парадные костюмы пахнут духами «Серебристый ландыш». На полочке лежит мыло – от моли.
И еще коробочки, коробчонки, деревянные ящички, кожаные крохотные, как жуки-навозники, сумочки; и похвальные грамоты, закрученные в трубочку и перевязанные цветными лентами; и огромная страшная книжка с обгрызенными мышами краями – «Офтальмологическiй Справочникъ», если ее открыть, то со страниц в тебя ударят дикие, жуткие глаза – уродливые ячмени, зернистые веки, будто красным рисом обсыпанные, и подпись: «ТРАХОМА», и россыпь гравюр по желтой, как церковный воск, бумаге: колющие и режущие инструменты – ими выковыривают из-подо лба больные, нежные глаза, – ножи, скальпели, ножницы, расширители, зажимы, ― мама зовет их кукурузным словом «корнцанги», ― пинцеты, иглы, лезвия. Я слышу в ушах крик точильщика, он приходит к нам во двор по воскресеньям с громоздким наждаком на плече: «Точу ножи-ножницы!.. Точу ножи-ножницы!..» ― и зажимаю руками уши.
Оглядываюсь. Кто смотрит на меня?! Хватаю себя руками за локти. Локти трясутся. Я смеюсь над собой, нарочно смеюсь, и, чтобы увидеть свой многозубый, страшный смех, оборачиваюсь к зеркалу. На деревянной зеркальной полочке лежат красной змеей, свернувшейся в злую спираль, мамины коралловые бусы. Я сама их сюда положила. И забыла. Они отражаются в зеркале. Отражается пузырек «Красной Москвы». Отражается мой дикий игрушечный, неправдашний смех. Я же смеюсь понарошку. Шифоньер такой серьезный. Он огромный, как дом, в нем можно жить. Если буду продолжать хохотать, мне от него попадет.
Умолкаю. Встать на цыпочки, вот так. Вытянуться еще сильнее. Дотянуться. До чего? Нет, правда, только тянуться вверх; вверху страха нет. Там – полка. Верхняя. И там лежат большие толстые книги. Вон, торчат корешки.
Книги? Разве это книги?
Ну вытянись сильнее! Выгни спину! Все равно не достать.
Я беру стул. Взбираюсь на него. Я стою не на деревянной плашке: на спине коня. Четыре ноги, конь скачет подо мной, и я артистка цирка. Но-о! Покачнулась. Взмахнула руками. Чуть не упала. Скользкий паркет. Мама натирает паркет мастикой. А папа потом надевает на башмак мохнатую большую щетку на ремне и трет, трет, трет. До блеска.
Тяну руки к книгам-великанам. Ох, какие толстенные, не ухватишь! Беру ту, что лежит сверху. Под ней – еще две. Я никогда не видела таких громадных книг. Про что же в них написано? Может, это сказки? А может, это церковные книги, и буквицы в них древние и изогнутые, смазанные золотом, и пахнут воском и мышами?
Тащу книжищу на себя. Тяжела! Не удержу! Спускайся тихо, спокойно, Лена, спускайся. Сердце слишком сильно бьется. Так оно бьется только ночью: когда внезапно проснешься – а кровь – толчками в ушах, звенит оглушительно, и одна только мысль: умру, умру, и я тоже умру. И этот молот в голове – предвестник смерти, далекое предчувствие ее.
Ноги согнулись и опустили меня на пол вместе с книгой.
Я бережно положила ее на мамину кровать. Ласково погладила: мол, не бойся, успокойся. Я боюсь больше, чем ты.
Опять залезла на стул. Стащила с полки вторую. Кажется, она была еще толще и массивнее. И застегивалась на золоченые крючки и странные ремешки.
Лежат сестренки рядком – одна и другая.
Одна – кокетка: кожаный переплет, золотые уголки. Другая – старуха в синем панбархате, да бархат истлел, повытерся.
Третья осталась. Там, наверху.
Я ее тоже сниму. Сейчас.
Уже ловко, по-обезьяньи, я забралась на стул, схватила третью книгу. Она была празднично одета, укутана в ярко-алый, цвета знамени, плюш.
И тут ножка стула тихо, чуть слышно хрустнула и поплыла, скользко и коварно поехала в сторону, и вместе со стулом, превратившимся в лодку, поплыла и я.
Мы падали все вместе: стул, я, книга, шифоньер.
Когда мы все упали, я обнаружила: шифоньер на месте, зато книга щедро раскрылась, и из нее в разные стороны, вокруг меня, мимо меня, сквозь меня высыпались, рассыпались призрачными веерами серые, белые, коричневые, черные, глянцевые, зернистые, тусклые, рваные квадраты бумаги. На квадратах двигались и плясали, и замирали, и горбились, и плакали фигуры; это были люди, только совсем крошечные, как муравьи.
Лежа на полу, в обнимку с раскрытым альбомом, облаченным в краснознаменный плюш, я вспомнила, я догадалась: это фотографии.
Я и фотографии – мы лежали на полу, как на пляже летом, и рядом с нами лежал сломанный безногий стул, калека, сам себе костыль.
Я выползла из-под деревянных обломков и, отряхиваясь, как собака, встала с пола. Подобрала альбом. Сгребла в кучу все выбежавшие на свободу фотоснимки. Затолкала в раззявленную пасть плюшевой книги. Положила рядом с теми двумя.
Теперь они лежали на кровати все три: кожаная, сине-бархатная и плюшевая, красная.
Я встала перед кроватью на колени. Я знала: на колени старые бабушки в церкви встают, когда молятся. Но так было удобней всего. Я опять погладила кожаный переплет альбома, что я вытащила из шкафа первым. Он будто ждал этой ласки, я ощутила теплоту старинной телячьей кожи и странную, тихую и нежную дрожь внутри себя. Сейчас я открою ЭТО. Что – это? Книгу? Альбом? Чужую жизнь? Там – лица? Там – старые одежды и старые дома? Старые корабли и старые повозки? А может, я открою сейчас то, чему я пока имени не знаю, а пройдет время – и слишком, слишком хорошо узнаю его?
Руки протянулись сами. Может, это черепаховая кожа? Чепа, ты умрешь, и тебя освежуют, и твоей кожей – что?.. обтянут мою… чужую… давно мертвую жизнь?
Обтянут – мою смерть?
«О смерти запрещено думать. Никогда не думай о ней».
О времени – можно, а о смерти – нет.
Почему? Я уже видела, как умирают звери. И я видела, как люди хоронят людей.
В гробах люди лежат спокойно и радостно, они спят. Только не проснутся никогда.
Я открывала альбом, как – шкатулку с сокровищами. Как – гробницу, раку. Как – гроб.
Гроб, в котором спало ребенок-время в хрустальной колыбельке; и мне надо было оживить его, вытащить наружу, вывести за руку из темницы на свет, я это понимала.
Еле-еле, с натугой, отогнулась тяжелая обложка.
Еле-еле перевернулась плотная, как жесть, картонная страница.
Из-под картона вылетела большая жирная моль, с нее посыпалась золотая и серая пыльца мне на руки, на мамино постельное атласное покрывало. Китайское зеленое покрывало, вышитое огромными хризантемами и золотыми птицами.
Я ударила ладонью о ладонь. Раздался громкий хлопок. Я моль не убила. Улетела она.
Стоя на коленях перед супружеским ложем моих родителей, я глядела на первую страницу первого альбома, открытого мной, и на ней было тщательно выведено чернилами, тонким пером, крупными, как жужелицы, буквами:
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КРЮКОВ
РОДИЛСЯ В 1918 ГОДУ
НО ЭТО НЕВЕРНО
ПОДДЕЛАЛ СЕБЕ В ПАСПОРТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ
СТАРШЕ НА ТРИ ГОДА
ЧТОБЫ ВЗЯЛИ НА ФЛОТ
А НА РУКЕ ТАТУИРОВКА 1919
И мне в глаза ударила эта фотография.
Зажмурилась. Слишком яркий свет.
Свет – сквозь размытую, текучую воду, коричневую, грязную, чуть болотную, чуть шоколадную; гнется бумага, выгибается, рвется надвое и тут же склеивается, и шва не видать. Свет – по краям, по зубчатым краешкам: фигуры карие, а рамка белая, и не испачкали ее годы, не окровавили взрывы. Не залили бедную тонкую бумагу с призрачным отпечатком потоки крови из раны пулевой, осколочной. Свет: лохматятся края, ломаются, как белое сухое печенье, бумага тает, истлевает, изображенье на ней теряется и гаснет. Свет лампы гаснет. А свет моря?
Не порвешь. Не погнешь. Не состаришь.
Море, светлую воду, не вычерпаешь, не выпьешь никогда.
Свет брызжет в лицо. Квадратный кусок жесткой бумаги – уже металл. Уже ржавый бок подводной лодки; черная тяжесть якоря, спрятанного под носом корабля.
Эсминец? Линкор? Он вдали. Он вблизи.
Здесь. За скалами.
Свет заливает скалы. Свет бьет прибоем в лица двоих.
Их сфотографировали тайком – они оба не знали о том, что их снимают, а я их взяли и сняли без спросу. Кто подарил им снимок потом, когда проявил?
Сначала подарили ей.
Той, что стоит, прижавшись спиной к скале. И брызги прибоя летят ей в лицо. И смеется она.
А она передарила ему. Когда поняла, что он уезжает. От нее. Навсегда.
Как я могла об этом обо всем знать?
Колени заболели. Пальцы гладили молчащие лица на глянцевой коричневой дрожащей бумаге.
Лицо женщины. Брови – крылья чайки.
Лицо мужчины. Бритый лоб. Без бескозырки. Бескозырка – в руках.
Парень, матрос, смущенно стоит перед смуглой женщиной, вдвое старше его. Она меньше его ростом. Она сонными, совиными, с поволокой, огромными глазами глядит на ярко сверкающую под солнцем медную пряжку его ремня.
Обвести пальцем ее лицо.
Потом его лицо.
Я сама рисовала их обоих живым пальцем; я видела их глазами, пальцами и руками. Как слепая. Мама рассказывала: слепые читают книжки по системе Брайля. Вместо букв – выпуклые шарики и точки, линии и узоры. Слепой щупает узоры и улыбается: так он видит. Слепому не нужен свет снаружи: он носит свет внутри себя.
Свет бил мне в слепое лицо. Я перевернула снимок. На обороте фотографии было написано беглым, нежно-бисерным, сходным с арабской вязью почерком:
С. Н. А. ПОМНИ ОБО МНЕ.
Опять перевернула фото. Свет, свет усиливался. Свет исходил изнутри фотографии и заливал мне лицо соленой морской водой. Черно-белой водой, чернь и белизна колыхались и дрожали, и коричнево-зеленые глаза, щеки и волосы женщины словно бы сквозь толщу воды просвечивали.
Я приблизила лицо к свету. Я хотела окунуть в свет глаза, щеки, волосы. Я уже слишком близко поднесла свет к лицу, и мои коски с капроновыми ленточками в них легко могли загореться. Я не боялась. Надо было приблизить свет еще, еще. Вот так. Пространство вокруг меня раздвинулось, и я, вздохнув коротко и судорожно, как после долгого плача, вдвинула в движущийся, дрожащий, как вода, свет сначала лоб, потом горячее лицо, потом руки, потом осторожно переступила ногами, и голые руки мои, торчащие из рукавов старого байкового халатика, покрылись гусиной кожей. Шаг в свет был совсем не страшным. Я не поняла, как я шагнула ТУДА; мгновенное перемещение не понималось сознанием, зато отчетливо запомнилось зрячей кожей, влажным и важным биением крови, ударами звонкого бубна меж ребер.
Я вошла в фотографию легко и просто – так нож входит в ножны, так лекарство пьется больным и жадно запивается холодной, ледяною водой из жестяной кружки.
Вошла в свет и подумала: не ослепну?
Глаза пообвыкли. Увидели: матрос сделал к женщине шаг. И еще шаг. И еще шаг.
И женщина сильнее вжалась спиной в скалу. Раскинула руки. Отвернула голову.
Она не хотела, чтобы матрос ее целовал.
Матрос стоял уже очень близко к женщине. Дрожал и раздвигался, разымался и плыл коричневый, ржавый, мертвый воздух. Живые волны катились, накатывались из синей, туманной дали. Парень взял женщину за руки. Нежно, робко. Будто руки у нее были фарфоровые. Или неживые протезы.
– Софья, ― тихо сказал матрос. ― Нас завтра вечером отправляют уже. Софья! Если меня убьют?
Прибой разбивался о скалы, как бутылка шампанского. И пена стекала. И воздух пьянел.
Софья медленно, запоминая, обводила глазами лицо молодого матроса.
– Если тебя убьют, ― тихо сказала она, ― я буду молиться за тебя, как за сына. За упокой.
– Бога нет, ― кусая губы, бросил матрос. Ветер трепал черные траурные ленты бескозырки.
– Побойся Бога, Коля. Бог есть. Он был и есть всегда.
Софья подняла руки и сняла с шеи крестик на черном гайтане. Надела матросу на грудь. Заправила под тельняшку.
– Носи. Он спасет тебя.
– Да с меня, ― он сплюнул на соленые мокрые камни, ― его завтра же кавторанг сдерет! И за борт выкинет!
– Не выкинет. ― Глаза Софьи замерцали: так светится под водой ночной фосфорный планктон. ― Он заговоренный.
– И я, что ли, заговоренный?! ― Он уже нагло, страшно, отчаянно смеялся, все зубы показывая. ― И меня – не убьют?! Да там бойня! Там – всем – конец! Там… месиво…
Скрипнул зубами. Женщина провела ладонью по его щеке.
– Коленька. Гладко вон как побрился. Это ты… для меня?..
– Для тебя. ― Он схватил ее руку. Прижался губами к ладони. ― Сонечка! Ты меня…
– Я тебя не забуду, ― просто и печально вымолвила она.
Губы дрогнули, и задрожали губы в ответ. Губы налегли на губы, и маленькая девочка впервые видела, как по-взрослому, неотрывно и долго, бесконечно, целуются взрослые люди. Нет, она видела, как радостно, вкусно и ласково чмокают друг дружку ее отец и мать; но то были поцелуи обеденные, утренние, вечерние, семейные, приветственные, прощальные, – такие привычные, так целовались все, и она сама тоже так умела всех целовать. Но тут двое таяли, текли и втекали друг в друга, и жалко и стыдно было подсматривать за ними, и жадно глядели глаза, не отрываясь, не закрываясь.
Девочка видела их, а они не видели девочку. Какая девочка? Зачем? Откуда? Она стояла перед ними на сыром песке, на омытой солью круглой серой, синей и черной гальке, незримая, прозрачная; сквозь нее, ее ребра и личико, видны были скалы и волны. Женщина что-то почувствовала. Оторвала губы от губ матроса. Оглянулась. ― Коля, ― отвела ото лба прядь, ею ветер играл, ― мне кажется, тут кто-то…
– Мы здесь одни. ― Он снова притянул ее к себе. ― Никого. Море!
Софья оглянулась.
– Да. Море.
И у самой кромки бешеного белозубого прибоя, в брызгах йодистой горечи и слезной соли, в виду безмерной и пугающей шири бессмертного гигантского, светящегося и вспыхивающего опала океана, они крепко обнялись, и уже не целовались медленно и нежно – безумно, задыхаясь, покрывали напоследок поцелуями щеки, лица, скулы, веки, лбы и брови, и руки и плечи друг друга, и матрос встал перед женщиной на колени, прямо на сырую шуршащую гальку, и впились в колени древние камни, и обвили крепкие руки, каменные мускулы тонкую талию, ощутив под бугристыми мышцами вянущую сухощавую плоть, и легло жаркое молодое лицо на нежный поживший, бьющийся под многими животами живот, так и не зачавший, не зародивший жизнь, а он так хотел ребенка от нее.
– Я так хотел ребенка от тебя! Если меня убьют, у меня на этой земле даже сына не будет!
Женщина стояла над ним, положив пальцы на его коротко стриженые волосы. Она улыбалась.
– Я стара родить. Тебе – молодая родит. После войны.
– Откуда ты знаешь, что я останусь жив?!
Вскочил на ноги. Схватил Софью в охапку. Тут же выпустил. Побежал. Побежал все размашистее, все быстрее, и галька осыпалась под подошвами башмаков. Развевался за плечами воротник. Напялил на бегу бескозырку, и рвал ветер черные, с золотыми буквами, ленты.
Девочка все стояла у скалы. Прибой заливал ее ноги в домашних тапочках с меховой оторочкой. Она не могла оторвать глаз от бегущего, убегающего навсегда. Он бежал от нее, и он не знал, что он бежит – к ней.
Свет густо и плотно, заливая золотым молоком одинокое побережье, вливаясь в пустую черную тоску зрачка, обнял Софью, девочку, далекую фигуру бегущего матроса; свет властно поднялся из морской глубины, чтобы сразу раствориться, вспыхнуть и исчезнуть, провалиться в нахлынувшую тьму – будто распахнули старый кованый сундук и смяли и затолкали туда, как грязные тряпки, океан, людей, камни, небо, мир.
― Папа, ― я услышала, как чужой, свой хриплый голос, – я тебя узнала.
АЛЬБОМ НИКОЛАЯ
мама Евдокия Семеновна
отец Иван Иванович КРЮКОВЫ
станица Марьевка Луганской области
1925 год
Лапоть у тоби уместо лица, лапоть, Дуня.
А у тебя, Иван Иваныч, больно уж красиво лико-то! Всмотрися в зерькило! Ужаснесси.
Ах, Дуничка. Дак я ж пошутыв. Шуткую я, впрочем. И не понять тоби. Никохда!
Где уж нам понять-то вас, Иван Иваныч. Вы этта, севодни зачем грязны сапоги надели? Я ж вам начистила. Вон, за печкой стоят. Вас ждут.
Эх, Дуничка! Умница ты у мене. Шо ж ты мене ране-то не сбрехала? Я б и правильный став сразу. Чистай. А то ж хрязнай. Ото ж? О це ж! Шахтер – вин и должон хрязнай бехать. Хиба прынцы мы!
Якой же ты шахтер, Иван Иваныч. Ты ж тильки тириконы насыпать помогашь. Лопатой помахивашь. Вот усе твае тут и шахтерство.
Ах, Дунька ты хлупая. Как у девках хлупая була, так и у бабах хлупая осталася. Кабыдто ты не знашь, шо я у шахту с рябым Матвей Филиппычем завжди спускаюся? И с фонарем. Усе чин-чинарем. Дунь, а ты шо у мене, опять брюхатая, чи шо? Вон оно пузцо-то торчит. Хлопчик там?
Девку хочу, Иван Иваныч. Хлопцы-то у нас вже есть. Я вить, не ругай мене тильки, плод хотела скинуть.
Як скинуть?! Ах ты стервь!
Не бей, Иван Иваныч. Выслухай сперва. Ну тошнит мене, рвет безбожно. Наизнанку выворачиват. Ить вить у нас с тобою трое мальцов вже ж. Хватит, думаю. И голод прямо животом чую, усими печенками чую. Говорять, голод у нас тут будэ, на Вкраине. У Луганске и округе. Так брешут.