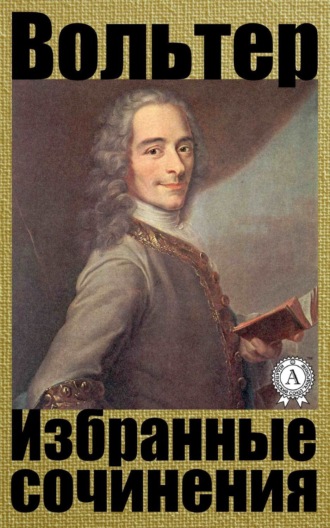
Полная версия
Избранные сочинения

Вольтер
Избранные сочинения

Диалоги Эвгемера
Диалог первый
Об Александре
Калликрат. Ну-с, мудрый, Эвгемер[1], что видели вы во время своих путешествий?
Эвгемер. Глупости.
Калликрат. Как! Вы путешествовали в свите Александра и вас не охватил экстаз восторга?
Эвгемер. Вы хотите сказать, экстаз жалости?
Калликрат. Жалости к Александру?
Эвгемер. К кому же еще? Я видел его только в Индии и в Вавилоне, куда я, как и другие, отправился в тщетной надежде просветиться. Мне там сказали, что он и в самом деле начал свои походы как герой, но закончил их как глупец. Я видел этого полубога, превратившегося в самого жестокого из варваров, после того как он был самым гуманным из греков. Я видел трезвого ученика Аристотеля, ставшего презренным пьяницей. Я отправился вслед за ним, когда, оставив трапезу, он принял решение поджечь величественный храм Эстекара, дабы удовлетворить прихоть жалкой распутницы, именуемой Таис. Я сопровождал его во время его безумств в Индии, и, наконец, я узрел его умирающим в расцвете лет в Вавилоне из-за того, что он напился как последний забулдыга из его войска.
Калликрат. Какое унижение для великого человека!
Эвгемер. Иных среди великих не существует; они как магнит, определенное свойство коего я открыл: один его конец притягивает, другой – отталкивает.
Калликрат. Александр крайне меня отталкивает, когда, подвыпив, сжигает город. Но мне совсем неизвестен Эстекар о котором вы мне рассказываете; я знаю только, что этот сумасброд и безумная Таис сожгли для своей забавы Персеполь.
Эвгемер. Эстекар – как раз то, что греки именуют Персеполем. Нашим грекам нравится перелицовывать вселенную на греческий лад: они дали реке Зом-Бодпо имя «Инд»; другую реку они наименовали «Гидасп»; ни один из городов, осажденных в свое время и захваченных Александром, не известен под своим подлинным именем. Даже название «Индия» изобретено греками: восточные народы называли эту страну «Од-ху». Таким же образом в Египте они создали города Гелиополь, Кроко-дилополь, Мемфис. Стоит им отыскать звучное имя, и этого бывает довольно. Вот так они ввели в заблуждение всю Землю своими именами богов и людей.
Калликрат. Это еще не столь великое зло. Я не сетую на тех, кто таким образом обманул мир; я виню тех, кто его разоряет. Я совсем не люблю вашего Александра, который отправился из Греции в Киликию, Египет, на Кавказский хребет, а оттуда дошел вплоть до самого Ганга, убивая на своем пути все встречное – врагов, нейтральных людей и друзей.
Эвгемер. Это был лишь реванш: он отправился убивать персов, но до того персы явились, чтобы убивать греков; он помчался на Кавказ, в обширные пределы скифов, но эти скифы дважды опустошали Грецию и Азию. Все народы во все времена подвергались грабежам, порабощению и истреблению со стороны других народов. Говоря «солдат», мы говорим «вор». Каждый народ отправляется грабить своих соседей во имя своего бога. Разве мы не видим сейчас, что римляне, наши соседи, выходят из логова, образуемого семью холмами, для того, чтобы грабить вольсков, антийцев, самнитов? Скоро они придут грабить и нас, если научатся строить лодки. С того момента, как они узнали, что жители Вейн, их соседи, имеют в своих закромах немного пшеницы и ячменя, они заставили своих жрецов-фециалов объявить справедливым грабительский поход против вейентов. Разбой стал священной войной. У римлян есть оракулы, повелевающие убивать и грабить. У вейентов, с своей стороны, есть также оракулы, предсказывающие им, что они украдут римскую солому. Наследники Александра разворовывают сейчас для себя провинции, которые раньше они разворовывали для своего грабителя-господина. Таким был, таков есть и таковым всегда будет человеческий род. Я объездил половину Земли и видел там только безумства, несчастья и преступления.
Калликрат. Могу ли я спросить вас, встретили ли вы среди стольких народов хоть один справедливый?
Эвгемер. Ни одного.
Калликрат. Скажите же мне, какой из них наиболее глуп и зол.
Эвгемер. Тот, что более других суеверен.
Калликрат. Но почему самый суеверный народ – самый злой?
Эвгемер. Потому что суеверные считают, будто они выполняют из чувства долга то, что другие делают по привычке или в припадке безумия. Заурядный варвар, такой, как грек, римлянин, скиф, перс, после того как он в добрый час совершил убийство, грабеж, выпил вино тех, кого только что убил, и изнасиловал дочерей убитых отцов семейств, более ни в чем не нуждается и становится кротким и гуманным, чтобы расслабиться. Он прислушивается к чувству жалости, заложенному природой в глубине человеческого сердца. Он подобен льву, прекратившему преследование добычи с того момента, как он не чувствует себя больше голодным. Но суеверный человек напоминает тигра, продолжающего убивать и терзать добычу даже тогда, когда он сыт. Верховный жрец Плутона говорит ему: «Истребляй всех поклонников Меркурия, поджигай все дома, убивай всех животных»; и мой святоша почел бы себя святотатцем, если бы оставил живыми хоть одного ребенка и одну кошку на территории Меркурия.
Калликрат. Как! На свете существуют такие страшные народы, и Александр не истребил их, вместо того чтобы идти к Гангу и нападать там на мирных и человеколюбивых людей – тех, кто, если верить рассказам, изобрел философию?
Эвгемер. Разумеется, нет; он, как стрела, пронесся сквозь одно из маленьких племен фанатичных варваров, 6 которых я сейчас говорил; и поскольку фанатизм не исключает подлости и трусости, эти жалкие люди попросили у него пощады, льстили ему, выдали ему часть награбленного ими золота и получили разрешение грабить и впредь.
Калликрат. Значит, человеческий род ужасен?
Эвгемер. Среди обширного числа этих зверей встречаются иногда овцы, но большинство их – волки и лисы.
Калликрат. Я хотел бы понять, откуда эта огромная диспропорция в пределах одного и того же рода?
Эвгемер. Говорят, происходит это потому, что лисы и волки пожирают овец.
Калликрат. Нет, мир этот слишком несчастен и страшен; я бы хотел знать, откуда берется столько бедствий и глупостей.
Эвгемер. И я бы хотел того же. Давно уже, возделывая свой сад в Сиракузах, я об этом грежу.
Калликрат. Прекрасно! И что это были за грезы? Скажите мне, прошу вас, немногословно, всегда ли наша Земля была населена людьми? И вообще, всегда ли существовала она сама? Есть ли у нас душа? Вечна ли эта душа, как считают вечной материю? Существует ли один бог или множество? Что эти боги делают, почему они милостивы? Что такое добродетель? Что такое порядок и беспорядок? Что такое природа? Имеет ли она законы? Кто эти законы установил? Кто изобрел общество и искусства? Какое правление наилучшее? И особенно – в чем самый верный секрет, помогающий избегать опасностей, коими каждый человек окружен на каждом шагу? Все остальное мы исследуем в другой раз.
Эвгемер. Да это разговор не меньше чем на десять лет, если беседовать по десяти часов ежедневно!
Калликрат. А между тем обо всем этом шла вчера речь у прекрасной Евдоксии, и беседовали между собой самые приятные в Сиракузах люди.
Эвгемер. Ну, и какой же был сделан вывод?
Калликрат. Да никакого. Там присутствовали два жреца – Цереры и Юноны, и дело кончилось их взаимной перебранкой. Так откройте же мне без стеснения все ваши мысли. Я обещаю вам не спорить с вами и не выдавать вас жрецу Цереры.
Эвгемер. Отлично! Задайте мне ваши вопросы завтра; я попытаюсь вам ответить, но не обещаю вас удовлетворить.
Диалог второй
О божестве
Калликрат. Начну с обычного вопроса: существует ли бог? Великий жрец Юпитера Аммона объявил Александра сыном бога, и ему за это щедро заплатили; но сей бог – существует ли он? И не смеются ли над нами с того самого времени, как о нем говорят?
Эвгемер. Действительно, над нами смеялись, когда заставляли нас поклоняться Юпитеру, скончавшемуся на Крите, или каменному барану, скрытому в песках Ливии. Греки, люди остроумные до глупости, недостойным образом насмеялись над человечеством, когда из греческого слова, означающего бежать, они сделали слово theoi – «бегущие боги»[2]. Их пресловутые философы – на мой взгляд, самые неразумные разумники в этом мире – утверждали, будто такие бегуны, как Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, – бессмертные боги, ибо они находятся в вечном движении, и, как представляется, движутся сами по себе. С таким же успехом они могли бы сделать божествами ветряные мельницы.
Индийское приключение
Переводчик Л. БухПифагор, во время пребывания в Индии, изучил, как всем известно, в школе гимнософистов, язык животных и растении. Гуляя однажды по поляне, расположенной недалеко от морского берега, он услышал следующие слова: Как я несчастна, что родилась на свет травою! едва я вырастаю на два дюйма от земли, как является прожорливое чудовище, отвратительное животное, которое топчет меня своими большими ногами; его челюсти вооружены целым рядом острых кос, при помощи которых оно меня срезает, рвет и пожирает. Люди называют это животное бараном. Я не думаю, чтобы на свете было более гнусное создание.
Пройдя несколько шагов дальше, Пифагор нашел на маленькой скале раскрывшуюся устрицу. Не придерживаясь еще того удивительного правила, по которому запрещалось есть животных, подобных нам, он хотел уже проглотить устрицу, как вдруг она произнесла следующие трогательные слова: О, природа! как счастлива трава, которая представляет собою такое же твое творение, как и я! Когда ее скашивают, она возрождается вновь, она бессмертна; а мы, бедные устрицы, нас не защищает даже двойная броня; злодеи пожирают нас дюжинами за завтраком, и этим кончается всё. Какая ужасная судьба устриц, и какие варвары люди!
Пифагор содрогнулся, почувствовав всю огромность преступления, которое готов был совершить. Он попросил прощения у устрицы, со слезами на глазах, и осторожно положил ее обратно на пригорок, где она лежала раньше.

По дороге в город, размышляя сосредоточенно о происшедшем, он заметил, как пауки пожирали мух, как ласточки заклевывали пауков и как ястребы поедали ласточек. Все эти господа, сказал Пифагор еще не философы!
При входе в город Пифагор попал в толпу нищих и нищенок, которые толкали его, мяли и, наконец, повалили на землю; толпа эта бежала и кричала: Так и следует! Так и следует! Они вполне заслужили этого! – Кто? Что? спросил Пифагор, подымаясь на ноги. Толпа продолжала бежать, говоря: Ах! какое удовольствие доставит нам зрелище, когда их будут поджаривать!
Пифагор сначала думал, что они говорят о чечевице или о каких-нибудь других овощах; совсем нет, дело шло, как оказалось, о двух бедных индийцах. Ах! сказал он; это вероятно два великих философа, уставших жить; они очень будут довольны возродиться снова к жизни в другой форме; приятно переменить жилище, хотя бы оно было не лучше прежнего, хотя о вкусах не следует спорить.
Он приблизился, вместе, с толпой, к городской площади, и тут увидел пылавший большой костер, против него сканью, называвшуюся судилищем, а на скамье судей; каждый из них держал в руке но коровьему хвосту, на их головах были надеты колпаки, очень походившие на уши того животного, на котором ехал Силен[3], когда он, вместе с Бахусом, пройдя как посуху через Эритрейское море, остановил солнце, луну, как рассказывается об этом с достоверностью в песнях, приписываемых Орфею.

Среди судей был один честный человек, очень хорошо знакомый Пифагору; этот мудрый индус объяснил мудрецу с Самоса, по какому поводу устраивался праздник для индусского народа.
Двое индусцев, сказал он, вовсе не имеют никакого желания быть сожженными; но мои суровые сотоварищи осудили их на эту казнь: одного за то, что он утверждал, что существо Ксака не то же, что существо Брамы, а другого – за высказанную им мысль, что можно угодить Высшему Существу добродетельной жизнью, не держа за хвост корову в смертный час, так как, говорил он, добродетельным можно быть во всякое время, а корову не всегда найдешь и нужный момент. Добрые городские женщины были так напуганы тем и другим еретическим утверждением, что не давали покоя судьям до тех пор, пока те не решились присудить этих двух несчастных к смертной казни.
Пифагор пришел к заключению, что у всякого существа, начиная с травы и до человека, есть много поводов к скорби. Тем не менее, ему удалось переубедить судей и даже ханжей; но это был единственный случай, когда ему удалось одержать такую победу.
Затем, он отправился проповедовать терпимость в Кротон[4], но один из фанатиков поджег его дом, и Пифагор, который спас от огня двух индусов, сгорел. Спасайся, кто может.
Кандид, или Оптимизм
Перевод с немецкого доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене[5] в лето благодати господней 1759.
Глава первая. Как был воспитан в прекрасном замке Кандид и как он был оттуда изгнан
Перевод Ф. К. ТетерниковаВ Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали Кандидом[6]. Старые слуги дома подозревали, что он – сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени.
Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос[7] был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.
Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию[8]. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины[9] и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс.
– Доказано, – говорил он, – что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков[10], потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки, и вот монсеньор владеет прекраснейшим замком: у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели, – мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, – нужно говорить, что все к лучшему.
Кандид слушал внимательно и верил простодушно; он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень счастья – это быть Кунигундой, третья – видеть ее каждый день и четвертая – слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли.
Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела между кустарниками доктора Панглоса, который давал урок экспериментальной физики горничной ее матери, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень покладистой. Так как у Кунигунды была большая склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, свидетельницей которых она стала. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, полная стремления к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом опыта, убедительного для юного Кандида, так же как и он – для нее.
Возвращаясь в замок, она встретила Кандида и покраснела; Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним прерывающимся голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-то, чего и сам не понял. На другой день после обеда, когда все выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок, Кандид его поднял, она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы, но при этом с живостью, с чувством, с особенной нежностью; их губы встретились, и глаза их горели, и колени подгибались, и руки блуждали. Барон Тундер-тен-Тронк проходил мимо ширм и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок; как только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин; и было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.
Глава вторая. Что произошло с Кандидом у болгар
Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, сам не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обращая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергоф-Трарбкдикдорф[11]. Он печально остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых мундирах[12].
– Приятель, – сказал один, – вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий[13].
Они подошли к Кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать.
– Господа, – сказал им Кандид с милой скромностью, – вы оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться.
– Ну, – сказал ему один из голубых, – такой человек, как вы, не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов и пять дюймов?
– Да, господа, мой рост действительно таков, – сказал Кандид с поклоном.
– Садитесь же за стол. Мы не только заплатим за вас, но еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.
– Верно, – сказал Кандид, – это мне и Панглос всегда говорил, и я сам вижу, что все к лучшему.
Ему предложили несколько экю. Он их взял и хотел внести свою долю, ему не позволили и усадили за стол.
– Вы, конечно, горячо любите?..
– О да, – отвечал он, – я горячо люблю Кунигунду.
– Нет, – сказал один из этих господ, – мы вас спрашиваем, горячо ли вы любите болгарского короля?
– Вовсе его не люблю, – сказал Кандид. – Я же его никогда не видел.
– Как! Он – милейший из королей, и за его здоровье необходимо выпить.
– С большим удовольствием, господа!
И он выпил.
– Довольно, – сказали ему, – вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена и слава обеспечена.
Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он проделал упражнения немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него как на чудо.
Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк, как это он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел куда глаза глядят, полагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие – неотъемлемое право людей, так же как и животных. Но не прошел он и двух миль, как четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спросили, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает: быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз или получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того ни другого, – пришлось сделать выбор. Он решился, в силу божьего дара, который называется свободой, пройти тридцать шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его мышцы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прогону, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раздробили голову; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король; он спросил, в чем вина осужденного на смерть; так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, несведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляемо во всех газетах до скончания века. Искусный костоправ вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом[14]. У него уже стала нарастать новая кожа и он уже мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров[15].
Глава третья. Как спасся Кандид от болгар, и что вследствие этого произошло
Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во время этой героической бойни.
Наконец, когда оба короля приказали пропеть «Те Deum»[16] каждый в своем лагере, Кандид решил, что лучше ему уйти и рассуждать о следствиях и причинах в каком-нибудь другом месте. Наступая на валявшихся повсюду мертвых и умирающих, он добрался до соседней деревни; она была превращена в пепелище. Эту аварскую деревню болгары спалили согласно законам общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.
Кандид поскорее убежал в другую деревню; это была болгарская деревня, и герои-авары поступили с нею точно так же. Все время шагая среди корчащихся тел или пробираясь по развалинам, Кандид оставил наконец театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая Кунигунду.
Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды.
Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там научат жить.
Потом он обратился к человеку, который только что битый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот проповедник[17], косо посмотрев на него, сказал:
– Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?
– Нет следствия без причины, – скромно ответил Кандид. – Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и изгнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпрашивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать; все это не могло быть иначе.









