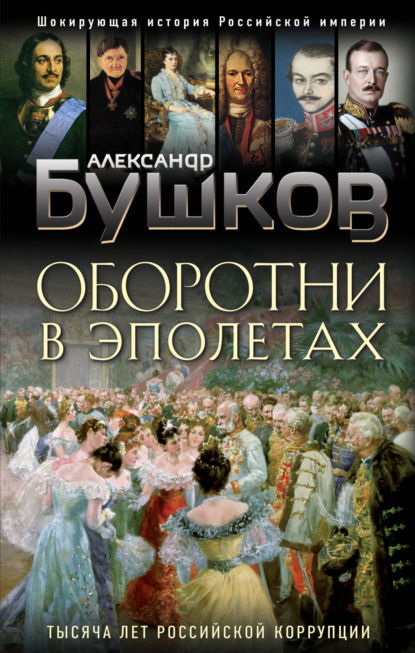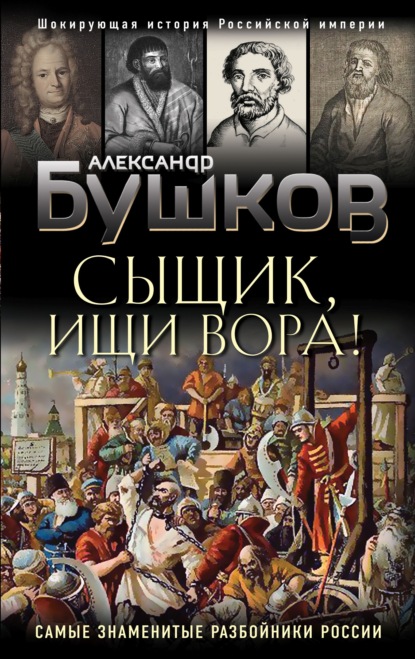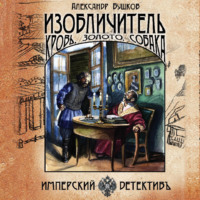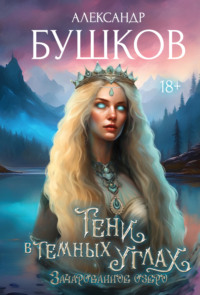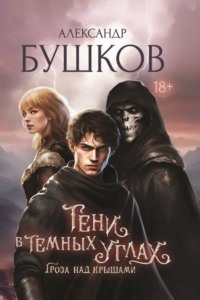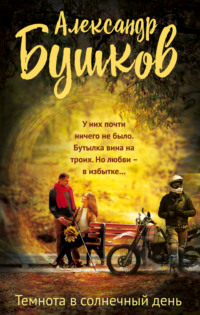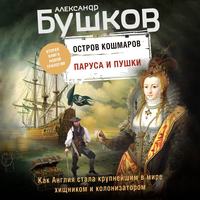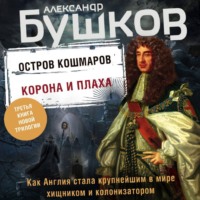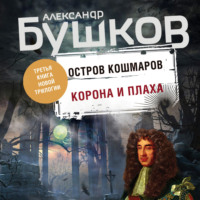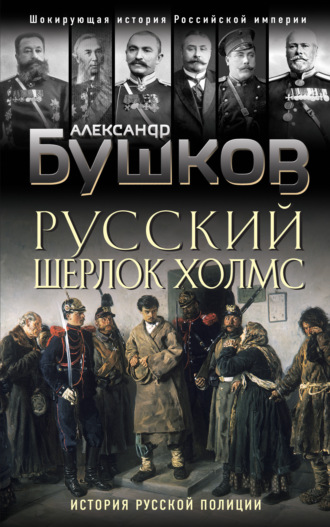
Полная версия
Русский Шерлок Холмс. История русской полиции
Все эти реформы касались только «центрального аппарата». На местах все осталось по-прежнему: новых полицмейстерских контор в «неохваченных» такими структурами городах так и не появилось, сельской полиции по-прежнему не существовало. Росло сопротивление военного начальства, которому не нравилось, что солдат и офицеров городских гарнизонов то и дело целыми командами отправляют на помощь полиции. А собственных сил полиции откровенно не хватало.
Скорее всего, Петр III (что бы о нем ни наплели впоследствии его враги, человек умный, дельный и энергичный) начал бы и далее проводить полицейские реформы. Но он попросту не успел. Слишком мало времени у него было, да и самой жизни оставалось слишком мало. Процарствовав неполных семь месяцев, он был свергнут собственной супругой с помощью пары гвардейских полков и через несколько дней убит…
Вполне вероятно, что он остался бы жив и по-прежнему сидел бы на троне, не соверши серьезнейшей ошибки, оказавшейся для него роковой… По благородству души Петр ликвидировал Тайную канцелярию – и не стало мощной спецслужбы, накопившей огромный опыт в раскрытии всевозможных заговоров. Скорее всего, такое решение было вызвано не только гуманизмом, но и немецким в значительной части менталитетом. Первые шестнадцать лет жизни (когда человек как раз и формируется как личность) Петр прожил в Германии (точнее, в одном из множества мелких государств, на которые была тогда разделена Германия, но это не суть важно). И не мог не проникнуться немецким менталитетом. В Германии XVIII столетия попросту не было ни заговоров, ни военных переворотов (они начнут прорезаться лишь в конце века, а уж в XIX веке расцветут пышным цветом). Германия того времени – некое подобие часового механизма, где порядок и закон доходили до такой степени, что однажды всесильный прусский король Фридрих Великий проиграл в суде дело собственному подданному (речь шла о каком-то мелком земельном споре). Прожив в России двадцать лет, Петр, такое впечатление, так и не понял до конца русскую душу. А впрочем, у него и не было к тому особых возможностей – очень уж узок был круг его общения, состоявший в основном из придворных. Да и потом не нашлось умного советчика, способного бы убедить: где-где, а в России тайную полицию распускать нельзя. Вот он и остался в убеждении, что всеми сторонами жизни руководят исключительно закон и порядок, и, коли уж он законный государь, опасаться ему нечего. Зато Екатерина (в отличие от мужа, родного внука Петра I, чистокровнейшая немка) как-то ухитрилась проникнуться именно что русским духом. А русский дух – понятие, включающее в себя слишком многое. В том числе и не раз претворявшееся в жизнь старое убеждение, что самого что ни на есть законного государя можно запросто сковырнуть с престола, если найдется парочка верных полков (а то и вовсе какая-то сотня гвардейцев, с помощью которых трон и заняла Елизавета)…
У Петра, собственно говоря, оставалась еще полиция (во все времена занимавшаяся не только криминалом, но и всевозможными заговорами). Однако полиция его как раз и предала – не участием в заговоре, а умышленным бездействием (что от участия в заговоре как-то не особенно и отличается, по-моему).
О том, как все происходило, давно и прекрасно известно из первых рук – я имею в виду знаменитые «Записки» А. Т. Болотова, офицера, участника Семилетней войны. После ее окончания Болотов стал служить на немаленькой должности при столичном генерал-полицмейстере бароне Корфе. И подробно все описал.
Столичная полиция во главе со своим начальником знала о готовящемся перевороте задолго: что готовится, кто готовит. И Болотов, и его сослуживцы как раз и сидели на агентурных донесениях, попадавших, естественно, всей кипой и к Корфу. Конспирация у заговорщиков была поставлена из рук вон скверно, о чем упоминают многочисленные свидетели, так что и рядовые гвардейцы по пьянке наболтали по кабакам достаточно. Кстати, барон Корф был в большой милости у Петра.
Человек решительный и энергичный, нет сомнений, усмотрел бы в происходящем нешуточную возможность отличиться, вовремя разоблачив заговор и приняв все меры к его подавлению. Тем более что шансы на успех имелись изрядные. Далеко не все придворные сановники были сторонниками Екатерины. Не так уж и далеко, в Прибалтике, стояла армия генерала Румянцева – восемьдесят тысяч штыков, как на подбор, обстрелянные на Семилетней войне солдаты.
Однако Корф, по характеристике Болотова, был в первую очередь «хитрым придворным человеком». И, заранее зная о заговоре почти всё, откровенно принялся устраивать свою собственную судьбу. Постарался отдалиться от Петра, насколько было возможно, при любом удобном случае маячить возле Катерины, чтобы «ей всем, чем мог только, прислуживаться и подольщаться».
Какой поп – таков и приход. Офицеры Корфа, и Болотов в том числе, практически забросили служебные обязанности и дни напролет вели долгие унылые беседы: как бы ухитриться, чтобы остаться в стороне от всего этого и не угодить под замок, когда переворот все же грянет? Какая уж тут работа… Вдобавок к Болотову стал откровенно липнуть один из главарей заговора Григорий Орлов, явно пытаясь «привлечь в ряды», чтобы иметь своего человека в столичной полиции.
Сам Болотов ухитрился соскочить, пользуясь «Манифестом о вольности дворянской», по которому офицер в мирное время мог подавать в отставку. Форменным образом не вылезал из Военной коллегии, напряг все связи, какие только были, и получил-таки драгоценное отпускное свидетельство (или, как тогда говорили, «абшид»). Он так торопился оказаться подальше от нешуточных жизненных сложностей, что, как сам вспоминает, из Военной коллегии к себе на квартиру бежал бегом. Прыгнул в возок, велел кучеру гнать что есть мочи и вихрем умчался из Петербурга за шесть дней до переворота…
Одним словом, переворот прошел удачно еще и оттого, что полиция бездействовала, начиная с руководства и кончая подчиненными. Самое занятное, что заговорщики оказались вынуждены выступить гораздо раньше, чем планировали. Выступление едва не сорвал не полицейский, а обычный гвардейский офицер, в заговор не посвященный вовсе. К нему подошел один из солдат его полка и прямо-таки с детской наивностью поинтересовался: ваше благородие, когда ж двинемся дурачка Петрушку свергать? Все разговоры, разговоры, когда ж за дело? Любопытный штришок к пониманию тогдашней ситуации: бравый рядовой даже не подозревал, что кто-то в полку может находиться вне заговора – таковы уж были настроения в гвардии…
Доля грустного юмора в том, что офицер как раз был преданным сторонником Петра. И владеть собой явно умел. Нисколечко не проявив удивления, он втянул солдата в разговор и с самым непринужденным видом поинтересовался: это кто ж тебе, рядовому, проболтался насчет нашего заговора? Рядовой столь же бесхитростно ответил: ну как же, капитан Пассек (и в самом деле один из видных заговорщиков). Дескать, не сомневайтесь, ваше благородие, мы люди не сиволапые, кое-что понимаем, да и знаем немало…
Уболтав «собрата по заговору», офицер тут же помчался куда следует. Тут уж, хочешь не хочешь, пришлось реагировать. Капитана Пассека сграбастали под арест, о чем заговорщики узнали очень быстро и, зная тогдашние методы «активного следствия», не на шутку испугались, что Пассек выдаст все и всех. Крепко сомневались, должно быть, в его стойкости. И моментально стали действовать, получилась чистейшей воды импровизация, но, как мы знаем из истории, закончившаяся успехом…
Впрочем, это уже политика, а у нас разговор идет о чисто полицейских делах…
Глава вторая
XVIII век: полиция крепнет
Неизвестно, учитывала ли Екатерина печальный опыт свергнутого супруга, в критический момент оказавшегося без толковой спецслужбы (как бы там ни было, Тайную канцелярию она очень быстро восстановила, изменив, правда, название на Тайную экспедицию, но задачи конторы остались прежними – тайный политический сыск).
Столь же скоро она предприняла довольно масштабные реформы касательно полицейского дела в России. Вот тут уже достоверно известно: она черпала опыт из сочинений французских философов Монтескье «О духе законов» и Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Французские так называемые «просветители» в то время как раз много внимания уделяли животрепещущему вопросу: как бы усовершенствовать общество и человека путем введения «разумных законов»? Как бы создать на их основе рациональную систему управления государством? Как бы избавиться от прежних пороков?
(Судя по всему, эти господа всерьез верили в то, что писали, а им, в свою очередь, всерьез верила Екатерина.) Одна беда: нигде и никогда самые «разумные» законы, в общем, человеческой сути не исправили и на состояние преступности особенно не повлияли. Такова уж человеческая природа, что самыми «разумными» законами ее не особенно и исправишь. Однако несколько десятилетий эти теории были в большой моде…
Уже в первый год царствования Екатерина занялась серьезными реформами полиции. Штаты сотрудников Петербургской и Московской полицейских канцелярий были увеличены. Из ведения полиции изъяли следственно-розыскные и судебные функции, а из ведения Главной полицмейстерской канцелярии – Розыскную экспедицию и сделали самостоятельным учреждением, подчиненным тогдашнему Министерству юстиции – Юстиц-коллегии (снова в полном соответствии с теми самыми французскими теориями о разделении административных и судебных властей).
Правительствующий Сенат был разделен на шесть департаментов – третий теперь контролировал все полицейские органы империи. А через три года Екатерина самолично составила «Наказ Главной полиции» – своеобразный «устав внутренней службы», своеобразную смесь деловых наставлений и благих побуждений, которые во все времена и во всех странах оставались исключительно на бумаге (все из-за того же несовершенства человеческой природы).
Руководителей полиции и их ближайших помощников предполагалось набирать из знатных фамилий, «которые должны быть освобождены от всяких недостатков, дабы могли избежать того, что может повредить чистоте их совести». Иными словами, располагать достаточными средствами, дававшими бы им независимость от всевозможных соблазнов. (Вот только прекрасно известно, и не только в России, что богатство высокопоставленного чиновника еще не гарантирует от тех самых «соблазнов» – взяток, шалостей с государственной казной и прочим. Тут уж все зависит от честности конкретного человека.)
Впоследствии в «Уставе благочиния, или полицейском» были изложены требования, которым должны отвечать служащие полиции.
1. Здравый рассудок.
2. Добрая воля в исполнении порученного.
3. Человеколюбие.
4. Верность службе императорского величества.
5. Усердие к общему добру.
6. Радение в должности.
7. Честность и бескорыстие.
Там же говорилось об опасности взяток, которые «ослепляют глаза и развращают ум и сердце, устам же налагают узду».
В 1775 году в России была проведена реформа местных органов управления, подробно разработанная в «Учреждении по управлению губерний». Прежние провинции были упразднены, и вместо них империю разделили на губернии (так, чтобы в каждой было примерно равное число жителей). Губернии, в свою очередь, делились на уезды. Центральный орган управления полицией – пережившая не одну реформу Главная полицмейстерская канцелярия тоже была упразднена, а многие функции управления полицией переданы «на места» – губернаторам и подчиненному им губернскому правлению (что несколько напоминает Соединенные Штаты, где нет и не было единого органа, руководящего бы полицией всей страны).
Наконец-то была создана сельская полиция. В каждом уезде местное дворянское собрание выбирало трех-четырех заседателей так называемого «земского нижнего суда» и его руководителя, земского исправника, именовавшегося еще капитан-исправником. И капитан-исправник, и земской суд подчинялись губернатору, но функции у них были достаточно обширные: надзор за порядком в уезде и исполнением решений суда, предварительное следствие по уголовным делам. Капитан-исправник кроме того должен был еще и отвечать за состояние дорог и мостов, противопожарную безопасность, борьбу с эпидемиями и эпизоотиями (массовыми болезнями скота).
Кроме того, ему вменялось в обязанность «поощрять не только земледельцев к трудолюбию, но и вообще всех людей к добронравию и порядочному житью», что касалось и дворян уезда. Между прочим, это как раз было не оторванными от жизни благими пожеланиями, а конкретной мерой, направленной на то, чтобы ограничить произвол и злоупотребления помещиков. Таким образом правительство пыталось поддерживать максимум спокойствия на местах. Провинциальные помещики частенько самодурствовали так, что порой кончалось не только крестьянскими возмущениями и беспорядками, но и убийством чересчур уж перегнувших палку дворян. А память о пугачевском бунте была еще слишком свежа… Поэтому капитан-исправнику и предписывалось принимать меры против «расточителей собственного своего имения» и людей, «порочащих дворянское звание». Екатерина прекрасно понимала, что опорой ее трона служит дворянство, но все же эту опору следовало держать в каких-то рамках…
Еще ниже, в деревнях и селах (село отличается от деревни тем, что в селе есть церковь, а в деревне церкви нет), порядок теперь должны были обеспечивать выбранные самими крестьянами сотские и десятские, обязанные «смотрение иметь и разведывать в селении и близ него против воров, разбойников, злоразгласителей (тогдашних агитаторов. – А. Б.), беглых». Несмотря на все последующие реформы полиции, эти должности сохранились до самой революции.
Чуть позже начали реформировать и городскую полицию. В городах учреждался новый орган – «Управа благочиния, или полицейская». Вместо отмененных полицмейстеров Управу теперь возглавлял городничий (кроме Москвы и Петербурга). Как повелось еще с допетровских времен, Управа не только выполняла полицейские функции, но и следила за «исправностью строений» и чистотой улиц, в качестве судебного органа рассматривала уголовные и гражданские дела.
Введено было и новое административно-территориальное деление городов (относительно крупных). Город делился на «части», куда входило от 200 до 700 дворов, а части, в свою очередь, на кварталы (50–100 дворов). Частью руководил частный пристав, при котором состояли два полицейских сержанта, а в больших городах – целая полицейская команда. Приставу подчинялись квартальные надзиратели, а тем, в свою очередь, квартальные сторожа, к каждой должности «прилагался» конкретный чин – полицмейстеры в двух столицах приравнивались к генералу, городничие в столицах губерний – к полковнику, частные приставы – к штабс-капитану, квартальные надзиратели – к поручику (в других городах губернии все они стояли на чин ниже).
Вступивший на трон Павел I, человек требовательный, любитель дисциплины и порядка, не мог не заняться очередными реформами полиции – с учетом требований нового времени. При нем полиция в уездных городах по-прежнему возглавлялась городничими, в губернских ею стали заведовать полицмейстеры с соответствующим штатом служителей. Частных приставов и квартальных надзирателей сохранили, но упразднили должность квартального поручика (который при Екатерине избирался на три года жителями квартала и был чем-то вроде их представителя при полиции). Упразднили и Управу благочиния, передав ее полицейские функции полицмейстерам и городничим, а судебные – судам. Именно в павловские времена были введены специальные жетоны для полицейских, указывающие их должность, и проведено окончательное «разграничение» с армией – полиция теперь считалась «частью гражданской» и к армейским делам отношения более не имела.
Полиция и в те времена грешила не особенно эффективной борьбой с преступлениями, так что многие оставались нераскрытыми из-за «недостаточного исследования». Узнав об этом, Павел распорядился отсылать в губернскую судебную палату со всей губернии все материалы по нераскрытым уголовным делам и тщательно проверять под личным контролем губернатора.
Он ввел и еще более интересную меру, направленную на усиление эффективной работы: возложил на губернаторов, полицмейстеров и городничих материальную ответственность при хищении и краже казенного имущества и разбойных нападениях на почту. (Что, с уверенностью можно сказать, подстегнуло служебное рвение всех перечисленных чинов – отвечать своим карманом как-то не особенно и приятно…)
Кроме того, губернаторам теперь предписывалось лично подбирать офицеров и чиновников для службы в полиции, тщательно проверяя кандидатов, отдавая предпочтение «людям беспорочной службы и поведения». Мера опять-таки неглупая. Вызвана она была тем, что очень уж многие офицеры и штатские чиновники, уволенные из полков или отставленные от службы за всевозможные прегрешения и «порочное поведение» в поисках теплого местечка, стали стремиться поступить на службу в полицию. Легко представить, какую «пользу» приносили такие кадры.
Павел, безусловно, продолжал бы реформы и дальше, но у него просто не осталось времени: 11 марта 1801 года он был убит дворянами-заговорщиками. И в этот раз, как в случае Петра III, самую неприглядную роль сыграла столичная полиция. Правда, на сей раз она не бездействовала, наоборот… Один из главных руководителей заговора граф Пален, генерал-губернатор Санкт-Петербурга (по должности руководивший и столичной полицией), руками своих подчиненных то и дело доводил до форменного абсурда распоряжения Павла, даже самые толковые (естественно, скромно умалчивая о своей в этом роли). Что, как легко догадаться, усиливало раздражение и недовольство столичного дворянства императором – все полагали, что эти идиотские нововведения исходят как раз от него…
Еще и из-за этого Павел был совершенно несправедливо ославлен в глазах тогдашнего «общественного мнения» как полусумасшедший сатрап – подобно своему отцу. «Черные легенды» об обоих императорах порой дают о себе знать и в наше время…
Глава третья
XIX век: реформы продолжаются
Одной из самых важных реформ при Александре I стало создание в 1802 году вместо прежних органов управления министерств (пока что только восьми). В том числе и Министерства внутренних дел. Правда, по своим функциям оно изрядно отличалось от современного. Чисто полицейскими делами в нем руководил лишь один из нескольких департаментов, а главной задачей были разнообразные дела государственного управления. Все губернаторы теперь «числились» именно по МВД. Оно же занималось государственной промышленностью, кроме горной, государственным строительством, почтой, торговлей и многим другим. С небольшими изменениями эта система сохранялась до революции.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.