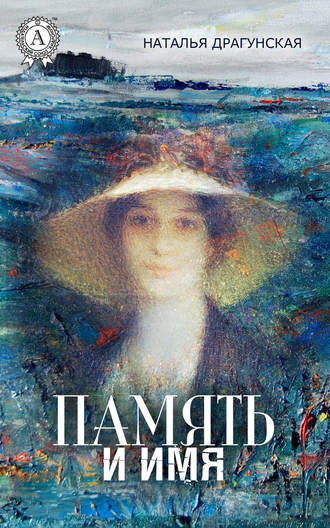
Полная версия
Память и имя
– Не думай о том, что будет ночью. Как будет, так будет. Он парень, как видно, тоже не очень опытный, может, это и хорошо, тебя любит, это видно, будет стараться тебя не обидеть. Так что не бойся. Даже если сначала что-то не получится, потом приспособитесь, со временем будет лучше. Ты мне верь, я знаю.
– Ты говоришь об этом, как о каком-то механическом процессе, а как же любовь? – несмело подала голос Бэлла.
– А я и говорю о любви, – засмеялась Галина, – но во всём нужно умение, а в любви особенно.
В это время раздался звонок во входную дверь, это начали прибывать гости.
Свадьба с тостами за здоровье молодых затянулась за полночь, и, когда разошлись, за окнами уже светало. Молодых уложили всё в той же пятиметровой комнате, из которой на время свадьбы к матери в большую выехали Нина с Яшкой. Назавтра было воскресенье, и вся семья, кроме Семёновой Ленки (она сказала, что плохо себя чувствует, и не пришла), собралась на завтрак доедать остатки. Неудобство, которое испытывали Бэлла с Ноликом от того, что все знали, чем они занимались ночью, прошло по причине, что никто за столом этой темы не касался, шуточек по этому поводу не отпускал, а наоборот, все старались говорить о делах повседневных, о том, как они будут жить дальше. Сейчас Нолик должен возвращаться на свой Дальний Восток, Бэлла же останется с матерью: она всё еще стоит на учёте в туберкулёзном диспансере, значит, будут писать друг другу письма, эпистолярный семейный роман, ничего страшного, дело житейское. А там, может, Нолика переведут поближе, Бэлла выздоровеет (в том, что она выздоровеет, ни у кого не было сомнений), и они объединятся. После затянувшегося завтрака, когда все разошлись, Нолик позвонил отцу:
– Папа, я женился, и нам негде жить.
– Ну что ты, сынок, ты же знаешь, что для тебя место всегда есть.
– Но я не один, я с женой.
– Для женщины, которую ты называешь женой, у нас места нет.
Нолик бросил трубку. Через два дня Бэлла провожала его. Он уезжал с того же вокзала, что и в прошлый раз, но уезжал не как одинокий лейтенантик, которого некому проводить, а как семейный человек, с женой под ручку, которая, как и полагается жене, накануне собрала его фибровый чемоданчик, аккуратно положив в уголок его завёрнутые в газету пирожки и десяток крутых яиц, чтобы не отощал в дороге и чтобы было чем угостить случайных попутчиков. Всю дорогу на вокзал, когда ехали в метро, а потом шли к поезду, Нолик, не отрываясь, смотрел на неё, как будто старался запомнить, чтобы увезти с собой, мельчайшие подробности любимого лица, и она, радостно отвечая на его взгляд, удивлялась про себя, как это ещё совсем недавно она и думать о нём не думала, а вот теперь он её муж, и оказывается, что она сильно в него влюблена. Домой Бэлла поехала на трамвае: не хотелось толкаться в метро, где лица пассажиров, в давке в вагоне смотревшие друг на друга в упор, не давали сосредоточиться. Трамвай ехал долго, но это было даже хорошо, его молчаливое покачивание, прерываемое звонками на остановках, соответствовало её элегическому настроению – грустью, что уехал, радостью, что он есть.
Митя
А через месяц в сентябре в гости приехал Митя Серебряков. О его приезде Нолик сообщил Бэлле телеграммой такого содержания: «Митя Москве двадцатого ткч прими зпт как брата ткч». Митя был одним из их братства, он ехал домой в Грозный на побывку, и Нолик уговорил его остановиться на несколько дней в Москве. Правда, уговаривать Митю долго не пришлось, ему и самому хотелось посмотреть на ту, которую они когда-то окрестили невестой, а теперь вот она с их лёгкой руки стала уже женой. Бэллу это известие взволновало необычайно, она знала, как Нолик относится к друзьям, и особенно к Мите, и она решила не ударить в грязь лицом. Нина с Яшкой уже в который раз на время были изгнаны из пятиметровки в общую комнату, мать загодя начала готовить, и вся семья, как всегда, когда происходило какое-нибудь важное событие, была позвана в гости. Когда в семь вечера Митя с видавшим виды Ноликиным чемоданом в руках (с чемоданами, как и со всем остальным ширпотребом в магазинах, была напряжёнка) вошел в комнату, то в первый момент был ошарашен множеством сидевшего у стола народа, сразу же повскакавшего ему навстречу, как только он открыл дверь. Его обнимали все сразу, и все разом что-то говорили и тащили к столу, а он, успевший за годы службы отвыкнуть от такого бурного проявления радости, которое может быть вызвано только встречей с близким человеком, человеком из семьи, и не сопротивлялся, уже подпадая под обаяние искренности их чувств. Его посадили во главу стола, дали в руку прозрачной жидкостью налитую до краев стопку, и тогда он, наконец, огляделся. По правую руку от него сидела Бэлла, которую он сразу узнал по стоявшей у Ноликиной кровати фотографии, а по левую… Он повернулся и так и застыл со стопкой в руке. Слева сидела неземная красавица. Большие, широко распахнутые голубые глаза глядели прямо на него, пухлые в вишневой помаде губы, за которыми поблёскивали удивительно ровные белые зубы, что-то говорили, а руки, открытые от полного локтя до тонкой, изящной кисти что-то протягивали ему. Он механически взял то, что ему предлагали (это была тарелка с какой-то едой) и поставил на стол. Из столбняка его вывел голос высокого молодого мужчины, который поднялся со стопкой в руке и, обращаясь к Мите, начал:
– Перед тем, как я произнесу тост, я хотел бы, Митя, вас со всеми познакомить, потому что семья у нас большая и мы так на вас все накинулись, что вы, наверное, в недоумении, кто есть кто. Это наша мама, Анна Соломоновна, – он показал на противоположный конец стола, где сидела пожилая, с пластмассовым гребешком в коротких тёмных волосах женщина, она улыбнулась Мите. – Я Миша, Бэллин брат, это моя жена Аля, это сестра Нина, а её сын Яшка сидит сейчас под столом и наверно мучает кота.
Крупная кареглазая женщина засмеялась и, подняв скатерть, заглянула под стол:
– Точно, сидит, только кота нет, сбежал от греха.
– Это сестра Люба, – продолжал Миша, – это её муж Сергей, – худой мужчина с намечающейся лысиной приветственно махнул рукой. – Это Галя Попова, Бэллина подруга, – баскетбольного роста девушка кокетливо взглянула на Митю и через стол протянула ему руку. Он, приподнявшись, галантно её пожал. – Это Роман, нашей сестры Гали муж, – крупный, бритый наголо мужчина с трубкой в зубах насмешливо, как показалось Мите, взглянул на него; – а это сама Галя, – он показал на красавицу, так поразившую Митю, Митя залился краской. – Это Наумка, наш самый младший из братьев, – молодой человек с каким-то очень по-детски незащищённым лицом кивнул Мите. – Ну, и ещё наш Сеня, самый старший, с женой Леной, они ещё не пришли. Ну, вот. А теперь, когда Вы всех знаете, можно и выпить. За ваш приезд, который мы так ждали, потому что Вы Ноликин друг, а Нолика мы полюбили, он хороший парень, за Вас, которого мы уже тоже любим! За Ваше здоровье!
Все задвигались, потянулись к Мите чокаться, и он на мгновенье отвлёкся от мыслей о красавице, сидящей слева, и тоже начал чокаться, и что-то говорить, и пить на брудершафт, и закусывать всем, что ему накладывала на тарелку Бэлла, приговаривая:
– Закусывай, закусывай, а то мои братья такой темп взяли, что под стол свалишься и не заметишь как.
Хорошая девчонка, заботится! Мите стало совсем легко:
– Не бойся, мы, офицеры, народ крепкий.
– Да мы это видим, – подала голос красавица слева, и Митю опять как опалило жаром, – такой богатырь! Куда там васнецовским [21] до вас!
Митя, который всё время старался не выдать своей заинтересованности, почувствовал, как опять предательски краснеет. Роман, наблюдавший за ним с другого конца стола, только усмехнулся: «Голову потерял мальчик. Ну, ничего, не он один такой, кто от Галины голову терял, завтра забудется». За Галину-то он был спокоен.
И правда. Назавтра, когда Митя проснулся (спал он долго и сладко, как давно уже не выпадало ему спать), вчерашнее наваждение как-то отдалилось, а потом и вовсе растаяло во впечатлениях, до краев наполнивших его дни в Москве. Бэлла, которая ещё не работала и поэтому была свободна, повезла его сначала на Красную площадь, поразившую его своими куполами и простором, а потом в Третьяковку, где они свой день и закончили, доведя себя до головокружения хождением по залам и кропотливым рассматриванием Суриковских боярынь и Врубелевских Демонов*. Смеркалось, когда они вышли из теремкового здания музея с бронзовой фигурой агрессивного пролетария с булыжником в мускулистых руках [22], никак не вяжущегося с пряничным фасадом, и пошли по Лаврушинскому мимо дома писателей на Ордынку с её серо-голубыми, желто-красными и бело-жёлтыми церквями, вознесшихся золочёными крестами в небо. Митя только головой крутил:
– Ну и ну, вот тебе и «опиум для народа», а церквей-то сколько!
– Да их позакрывали все, – утешила его Бэлла,
…пошли мимо огромных доходных и совсем маленьких, в шесть – восемь окон домов, пока не вышли через Клементовский на Пятницкую, которая, кстати, тоже была украшена трёхголовым, тёмно-красным собором. Бэлла посмотрела на часы: семь. Ничего себе прогулялись, с восьми часов на ногах! И есть хочется!
– Давай на трамвай сядем, – предложила она Мите, – а то мы так до второго пришествия домой не придём.
Они уже подходили к трамвайной остановке, когда из-за поворота показался трамвай. Зная по собственному опыту, что московские трамваи опоздавших не ждут, а, наоборот, норовят закрыть дверь прямо перед носом несостоявшихся пассажиров, Бэлла с криком «побежали!» схватила Митю за руку, и они помчались: он впереди, она сзади. Митя добежал первым, как раз в тот момент, когда кондукторша, глянув на него из окна, дернула за звонок, подав знак водителю закрывать двери. Но не на того напала! Стоя на подножке, он сильным плечом раздвинул почти уже съехавшиеся двери и здоровой ручищей втянул Бэллу сначала к себе на нижнюю ступеньку, а потом за собой и в вагон. Визг возмущенной кондукторши был ответом на его действия.
– Хулиган! – надрывалась она. – Я тебе покажу, как двери раздвигать и государственное имущество портить. Счас остановлю трамвай и в милицию тебя сдам. Петя, – крикнула она водителю, – останови!
И трамвай к Бэллиному ужасу начал останавливаться. Надо было что-то делать, как-то задобрить злобную бабу, произнести что-нибудь извиняющееся, но не успела она и рта раскрыть, как Митя повернулся к кондукторше, тяжелым взглядом смерил её с головы до ног и, не повышая голоса, но так, чтобы все слышали, произнес:
– Меня, красного командира, перед которым ты дверь нарочно закрыла, в милицию? Это ты, гражданочка, хватила! Я тебя саму за неуважение к воинскому званию и за то, что жизнь мою риску подвергла, сейчас в милицию сдам. И не визжи, – прервал он её, увидев, что кондукторша порывается что-то сказать. – У меня вон свидетелей весь вагон. Правда, товарищи?
– Правильно говорит! – раздалось со всех сторон. – Житья от этих трамвайных не стало! Мало того, что ждём их часами, так ещё и издеваются, дверьми захлопывают, хамят. И эта туда же! Где это видано, чтобы живых людей захлопывать?
Водитель, услышав шум, высунулся было из кабины, но тут же испуганно исчез за стеклянной дверцей, после чего трамвай, качнувшись, тронулся, как ни в чем не бывало. Митя, не обращая внимания на онемевшую враз кондукторшу, протянул ей мелочь, она, не считая, бросила её в брезентовую сумку и молча сунула ему два билета, которые он тоже молча принял, после чего неожиданно подмигнул Бэлле и, глянув в окно, безмятежно спросил:
– Это где мы сейчас едем?
– По Малому Садовому кольцу, – так же безмятежно ответила Бэлла.
Дома их ждали только мать с Яшкой (у Нины был концерт)
– Ну, что, гулёны, нагулялись? – спросила мать, расставляя тарелки. – Мы уж с Яшенькой вас заждались, нет и нет, куда подевались?
– Да у вас в Москве можно жизнь прожить, и так всё до конца и не увидеть, – ответил Митя, – а я только на три дня…
– Да живите, сколько хотите, – сказала мать, – мы вам рады.
– Не могу, Анна Соломоновна, – покачал головой Митя, – мать заждалась, сёстры, брат, ведь год не виделись.
– Ну, мать – это, конечно, тоскует она по вас, я понимаю. Значит, надо ехать. А где они? Я ведь так и не знаю.
– В Грозном [23].
– В Грозном? Ишь куда вас занесло.
– А занёс нас туда голод. – Митя вдруг почувствовал, что ему хочется рассказать этой с внимательными глазами женщине всё. – Я родился под Рязанью, семья наша крестьянская, жила на земле своим трудом. А в двадцать первом году грянул недород, есть нечего да ещё…, – он запнулся, – продразвёрстки. – Заторопился: Я знаю, это необходимо было, молодая республика в опасности, армию кормить нужно…
– Я понимаю, Митя, – мать накрыла его руку своей, – не волнуйтесь, рассказывайте!
– Ну, вот, и решил отец податься в тёплые края, на Кубань. А тут как раз брат Иван родился, у матери молоко пропало, кормила жевками: нажуёт хлеба, завернёт в тряпочку и сунет ему в рот. Думали, не выживет. – Он помолчал. Никто его не перебивал, все терпеливо ждали, и мать, и Бэлла, и даже маленький Яшка. – Как ехали, не помню, мать потом рассказывала, что долго, почти две недели. Она в подробности не любила вдаваться. Приехали в казачью станицу. Там нам повезло, выделили отцу кусок земли, он на ней чего-то посеял на первое время и начал строиться. Сначала, правда, в землянке жили. Зимой холодно было, это я помню. К лету кое-как построились. Дом небольшой, в две комнаты, но с печкой. Живи и радуйся. Вот мы и жили. И прожили мы так до тридцать первого года, а там опять недород, и из города приезжают хлеб изымать, и казаки, они всегда чуждые элементы Советской власти были, бунтовать против колхозов стали, ну, отец и решил от греха подальше уехать куда-нибудь. И уехали мы в Грозный. Ехали мы в общем вагоне, там яблоку негде было упасть, вся Россия тогда куда-то ехала. Мать как раз сестрой Машей беременна была. И в вагоне начала рожать. Это был ужас! – Он остановился. Дышать было нечем.
Бэлла не могла поверить собственным ушам. Митя такой сильный, косая сажень в плечах, красивый, глаза веселые, волосы пшеничные кольцами вьются – смерть девчонкам, вон как Галя Попова на него вчера смотрела – настоящий хозяин жизни, а что в себе носит!
– Господи, бедные вы, бедные, – прошептала мать, – сколько всего пережить пришлось! И что ж потом?
– А потом что? – Митя откашлялся. – Приехали в Грозный, а там тоже не лучше, чеченцы бунтуют против коллективизации, и понял отец, что попали мы из огня да в полымя. А ехать больше некуда, наездились, надо выживать. Сняли комнатёнку в доме у одной чеченской семьи, отцу повезло: нашел работу обходчиком на железной дороге (крестьянствовать зарёкся!), потом, когда освоились немного, прикупили небольшой кусок земли, развели на ней огород, а потом и дом построили.
– Так ваши так до сих пор там и живут?
– Не совсем. Мать в нём одна с двумя младшими, Ниной и Валей, живёт, они уже в Грозном родились. С отцом она развелась, он к другой ушёл. Брат Иван шофером работает, недавно женился, Маша с отцом и с его новой женой, а я после школы уехал в военное училище в Ярославль, я всегда хотел военным быть. Вот и всё.
– Ну, помогай вам Бог, чтобы на этом все ваши испытания закончились, – произнесла мать искренне, – и чтобы все вы были живы – здоровы.
– Не знаю, как насчет Бога, я в него не верю, но я матери помогаю и всегда помогать буду. Я старший, на кого ей еще надеяться?
– Дайте, Митенька, я вас за это поцелую, – сказала мать, – и пошла на кухню разогревать остывшие щи.
Нолик, Бэлла
Солнце ушло вместе с сентябрем, и в октябре на Москву навалилась дождливая мгла, сменившаяся в ноябре ранним снегом, быстро растаявшим, так что все два месяца москвичи ходили с мокрыми ногами, а в декабре лужи покрылись льдом, и теперь надо было опасаться не простуды, а переломов. И, наконец, как награда за предыдущие мучения, выпал пушистый снег, засыпавший всё вокруг, и это было признаком того, что наступил новый 1941 год. За это время Бэлла вернулась на прежнюю работу, Нина прошла конкурс и начала играть в оркестре народных инструментов Осипова (женский джаз давно закрыли: «джаз – музыка толстых», как его заклеймили с лёгкой руки пролетарского писателя Горького), где она играла уже не на трубе, а на тульском рожке; Мишу с женой послали в новоприобретенную (после начального между Гитлером и Сталиным раздела мира, названным пактом о ненападении), советскую республику Литву строить аэродром в столице Вильно; Семён съездил в Польшу, тоже этим же пактом разрезанную пополам, и привез Бэлле долгожданную шубу, которую она так никогда и не увидела по причине того, что шуба так понравилась Семёновой Ленке, что она просто не смогла с ней расстаться; а Роман ушёл от Гали. И это было почище потери шубы. Ушёл он неожиданно в один вечер, просто поставив её в известность, что полюбил другую, а насчет их комнаты, в которой они вместе проживали, сказал, пусть не волнуется, он на неё не претендует, так что она может оставаться в ней навсегда. Галя и осталась. А куда ей было идти? Семья её высказалась о Романе однозначно: «подлец, забудь о нём, предал один раз, предаст и второй, может, это и к лучшему, что ушёл, а ты молодая, красивая, ещё найдешь свое счастье». После такого семейного вердикта она обсуждать с ними эту тему перестала, к матери забегала только, когда знала, что там никого, кроме Наумки и Бэллы нет, Яшка в счёт не шел, а Нина всегда была либо на гастролях, либо на выступлениях. Вопросами там её не донимали, только один раз Бэлла решилась спросить:
– Вот ты мне тогда говорила про умение в любви, а сама не смогла ее удержать. Как же так? Значит, этого мало?
– Я о двоих говорила, о том, что они оба должны это умение вместе приобретать, а когда один из них перестает, другой уже ничего сделать не может.
– Так как быть любимой?
Галя усмехнулась, сказала горько:
– Ну, теперь этот вопрос не ко мне.
А в январе неожиданно приехал Нолик. Его перевели служить в дивизию, стоявшую в Алабино под Москвой. И вот это было счастье. Но счастье счастьем, а жить было негде, в общежитии мест для семейных, по крайней мере на ближайшие полгода, не было. Нолик позвонил отцу. Отец обрадовался несказанно. Это Нолик услышал по тому, как задрожал отцов голос:
– Сынок, ты откуда звонишь?
– Я в Москве, папа, меня сюда перевели.
– Сынок, приезжай!
– Я не один, папа.
– Приезжай не один, твоя комната тебя ждёт.
Так началась их настоящая семейная жизнь в квартире, в которой Нолик родился, и где все, живущие в ней соседи – и бывшая польская графиня Нина Георгиевна, и писатель – географ Алексей Сергеевич, и без особых занятий Александра Михайловна – помнили его сначала пухлым годовичком, потом дошкольником в матроске с длинными локонами, потом школьником, мучающим пианино и мучающимся с немецким, потом ворошиловским стрелком [24], потом курсантом, а вот теперь он стал взрослым мужчиной, военным, семейным человеком. И они радовались за него, что он такой молодой, но уже крепко стоит на ногах и что жену, видно, выбрал хорошую: улыбчивая, с ними приветлива и быстрая, в руках всё так и горит. «Вот Ноликина мать покойная, царствие ей небесное, порадовалась бы! Хорошая была женщина!». Бэлла очень быстро научилась вести хозяйство и принимать гостей, готовя царское угощение из того скудного набора продуктов, которым располагали магазины (сказалась материнская выучка!). И гости с восторгом поедали и пироги из тёмной муки с соей, и «цимес» – тушеную морковку в сладком соусе, и макаронно-творожную запеканку, запивая их сладким чаем со свежесваренным вареньем и попутно восторгаясь умением хозяйки, а Нолик сидел и тихо гордился. Чаще всех в гости забегали две Гали: Галя – сестра и Галя Попова. Галя – сестра внешне своего горя не выказывала (только курить стала ещё больше, не выпускала «беломорину» [25] изо рта), так же красила брови и ресницы («а то они у меня бесцветные, как у белорусской козы»!), мазала яркой помадой рот и выглядела даже ещё более соблазнительно, чем раньше, приобретя во внешности что-то от женщины с опытом. Галя Попова прибегала поесть и поделиться неудачами на любовном фронте. Она уже училась на втором курсе мединститута и три раза в неделю подрабатывала в больнице на еду (мачеха, как всегда, её не кормила) и на наряды (в основном, на наряды), поэтому всегда была голодная и съедала всё, что Бэлла ни подавала, с такой жадностью, что у той сердце переворачивалось. Она искренне радовалась за подругу, полюбила Нолика и втайне надеялась, что и ей улыбнется счастье, и в один прекрасный день и она встретит такого же замечательного парня, как он. Стал захаживать в гости и отец Нолика, сначала, правда, только когда Марьи Даниловны, его жены, не было дома, а потом и более открыто, при ней. Сцены, которые он выдерживал после посещений комнаты своего сына, по накалу не уступали древнегреческим трагедиям, в которых герои должны были обязательно или погубить кого-то, или сами погибнуть от чьей-то руки. Глагол «умереть» рефреном повторялся в объяснениях с частотой песенного припева.
– Хочешь умереть от чахотки, старый дурак? Умирай! – глухо доносился из-за стенки крик Марьи Даниловны, – а я хочу жить, и я эту туберкулезную на порог не пущу! Твой сын уже подписал себе смертный приговор, женившись на ней. Ты хоть понимаешь, что такое туберкулез? Я врач – бактериолог, я знаю, он не лечится. Только одно средство есть – американский пенициллин. Но его не достать, он не для нас с тобой, понимаешь ты или нет?
После чего, спохватившись, переходила на шепот, и разобрать ничего уже было нельзя.
Но тут возникал, постепенно накаляясь, голос Ноликиного отца:
– Замолчи, я не желаю тебя слушать! Она уже не опасна, у неё закрытая форма, и, вообще, она аккуратная, всё моет с мылом…
– С мылом! Не смешите меня! Кого ещё мыло уберегло от этой заразы?
– Да нет там уже никакой заразы, и потом мой сын ее любит.
– Тоже мне Ромео и Джульетта! Любовь еще никого от смерти не спасала!
И так каждый день. Со временем Бэлла даже как-то притерпелась к их ежедневным выяснениям отношений, в которых она служила яблоком раздора, и перестала рефлекторно вздрагивать при звуке голосов из соседней комнаты. С Марьей Даниловной она упорно продолжала здороваться, столкнувшись с ней в коридоре или на коммунальной кухне, хотя та так же упорно на её приветствия не реагировала. Но вскоре и на это она перестала обращать внимание: не реагирует и не надо, не очень-то и хотелось!. Нолик был такой замечательный: влюблённый, неконфликтный, сразу начинавший счастливо улыбаться только при одном на неё взгляде, и жизнь с ним, особенно на фоне подружкиных рассказов об мужних изменах, была такая хорошая, что иногда, просыпаясь ночью, она начинала неумело молиться: «Господи, спасибо тебе, что у нас так всё хорошо, сделай так, чтобы и дальше было так же!» И чтобы счастье её было уж совсем ничем незамутненным, в один прекрасный день к Гале, за которую она очень переживала, вернулся Роман. Он вернулся в её отсутствие, просто открыл дверь своим ключом и вошёл, оставив чемодан у входа, так что, когда она вернулась с работы, удивившись поначалу, что дверь в комнату открыта, она об этот чемодан и споткнулась, сильно ударив при этом лодыжку. Но ещё больше она удивилась, увидев Романа, который при виде её встал на колени и проворно пополз ей навстречу, выкинув вперед в покаянном жесте руки. Ползти особенно было некуда (комната была маленькая), поэтому Галя не успела опомниться, как руки блудного мужа обхватили её за талию и прижали к себе. Конечно, она надеялась, что он вернётся, конечно, ждала его каждый день, бегала в коридор, хватала телефон, кому бы ни звонили, прислушивалась к скрежету ключа открываемой многочисленными соседями по общей квартире входной двери, готовая забыть всё и принять его обратно, но эта сцена у фонтана [26] своей театральностью разозлила её чрезвычайно. Она отодрала от себя его руки и сказала раздельно:
– По-шёл вон!
Роман не удивился. Он слишком хорошо её знал, чтобы надеяться на лёгкое прощение: «никогда не сдаваться без борьбы!» – вот был её девиз. Поэтому он послушно поднялся с колен, но не ушёл, а остался стоять посреди комнаты, покаянно глядя на неё:
– Галочка…
– Грязный потаскун!
– Галочка, ты же знаешь, что люблю я только тебя одну.
– Да что ты говоришь! А как насчет верности любимой? Трудно выдержать, я понимаю. – К ней вернулось её чувство юмора. – В чужих постелях мягче спать? Как там? «Дианы грудь, ланиты Флоры» [27]? Продолжай! Постелей много, а желающих ещё больше. А сейчас пошел вон вместе со своим барахлом!
Она не без труда подняла его чемодан и выставила в коридор. Мельком увидела любопытное лицо соседки, высунувшейся из кухни. Наплевать! Роман проследил взглядом за чемоданом, сказал трагически:
– Галя, ты понимаешь, что, отказываясь от меня, ты отказываешься от нашей любви.



