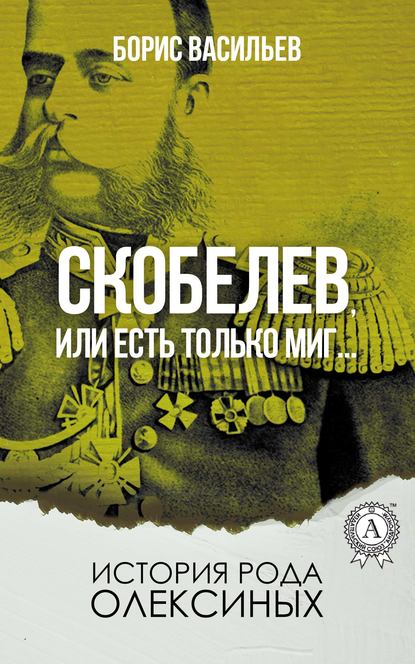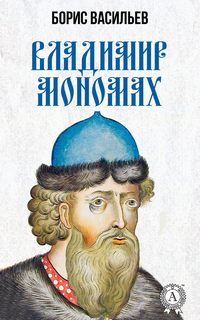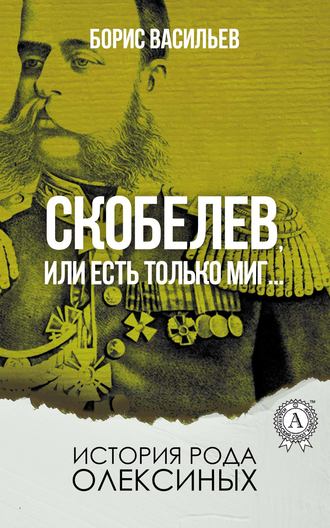
Полная версия
Скобелев, или Есть только миг…
– Как в засаду попал? Неужто дозоры проворонили?
– Наши дозоры кокандцы без шума ножами сняли, – есаул невесело усмехнулся. – Любопытствуешь?
– Знать хочу. Мне воевать с ними.
– Другое дело, – есаул спрятал усмешку. – У них текинские кони. По пескам сутки без еды скакать способны. Не уйдешь и не догонишь.
– А вооружены как?
– Эти английские скорострелки имели. И первым делом всех наших коней постреляли.
– На скаку?
– На скаку они стреляют скверно. Но им и не надо было на скаку стрелять. Их винтовки дальнобойнее наших бердан. Так что с седел и палили. Прицельно и не спеша.
– А ты что предпринял?
– Конскими трупами огородился со всех сторон да и залег с казаками.
– Атаковали часто?
– Совсем не атаковали. Измором хотели взять, потому и орали, чтобы мы на милость сдались. А мы, как на грех, без воды оказались, рассчитывали на колодцы впереди.
– Как же вы три дня под солнцем…
– Копыта дохлых лошадей лизали, перед рассветом они мокрыми становятся. Ты учти это, ротмистр, когда всерьез воевать с ними придется.
– Учту непременно. Спасибо за науку, есаул.
– И еще одно, – сказал есаул. – Так, для памяти. Их джигиты у своих убитых коней хвосты отрубают вместе с репицей. Хан за отрезанный хвост нового коня дает. Потому как это – доказательство того, что конь в бою пал. Так что ежели где бесхвостого коня увидишь, знай, что джигиты тут проходили. Воины, а не банды какие.
– Еще раз спасибо тебе большое, есаул. Давай обнимемся на прощанье.
Казаки получили ордена и медали, сами выбрали казенных лошадей взамен убитых, с удовольствием надели новую форму, подогнали выданное им новенькое снаряжение и ускакали на свои неспокойные рубежи. А Скобелев за это время сдал полуэскадрон выздоровевшему законному командиру и скучно околачивался при оперативном отделе.
Сейчас он избегал былых шумных компаний. Светские сплетни и слухи о том, что бравый гусар перепугался суровой выволочки Кауфмана, доказали, что друзей у него нет, а есть лишь собутыльники да случайные приятели. Кроме того, он все время думал о разговоре с есаулом Серовым, который старательно, слово в слово, занес в специально купленную ради этого толстую тетрадь.
Друг объявился сам. Да не какой-нибудь, а проверенный на совместном пансионном житье в городе Париже. Негромкий, улыбчивый юный княжич Насекин: единственный, к которому все обращались только на «вы», потому что сам князь признавал только такую форму общения даже с прислугой. Скобелев не видел его со времен своего скоротечного обучения в университете, не знал, закончил ли он его, как живет и что поделывает. И обрадовался его внезапному приходу до того, что даже сграбастал в объятья, хотя знал, что князь не очень-то жалует столь бурные проявления чувств.
– Серж, дорогой вы мой! Вот уж кого не ожидал увидеть в пропыленной глуши нашей, так это – вас. Каким ветром занесло вас в эти Палестины?
– Говоря откровенно, меня об этом попросили, и я сразу же согласился.
– Кто же вас попросил? – поинтересовался Скобелев, слегка уязвленный княжеской прямотой.
– Наш ментор, Скобелев. Монсиньор Жирардэ.
– А… Простите, не очень понял. С какой целью?
– Он немного стесняется своего французского акцента, оттого и пожелал, чтобы я сопровождал его.
– А что у него за надобность в Туркестане?
– По-моему, просьба вашей матушки Ольги Николаевны, отказать которой у него всегда недоставало сил.
Скобелев окончательно запутался во всех причинах и следствиях. Но, сосредоточенно помолчав и основательно подумав, спросил напрямик:
– Значит, уважаемый мэтр Жирардэ прибыл проверять, как я себя веду? Кто же матушке на ушко нашептал, интересно?
– Я не коллекционирую чужих секретов, Мишель, – князь улыбнулся бледной усталой улыбкой.
– Прощения прошу, Серж, – Скобелев вздохнул. – Всю жизнь под присмотром хожу.
– Понимаю ваши чувства, Мишель, однако… – Князь Насекин достал хронометр, щелкнул крышкой. – Однако прошу извинить. Через тридцать семь минут наш мэтр ждет нас в ресторане славного города Ташкента.
– Согласитесь, князь, что все это по меньшей мере странно, – недовольно бормотал Скобелев, пристегивая саблю. – Меня воспитывают раньше, чем я даю повод для этого…
Настроение его было вконец испорчено, и он надуто молчал всю дорогу. Насекин молчал тоже, благо до единственного ресторана Ташкента было рукой подать. То ли потому, что в чем-то соглашался с другом, то ли потому, что не соглашался, но, как всегда, не спорил по свойственной ему крайней щепетильности.
Они вошли в небольшой ресторанчик, открытый расторопным армянином в основном для господ офицеров. Еще у входа Скобелев заметил своего старого наставника, однако месье Жирардэ был не один. Рядом с ним сидел бородатый молодой человек в партикулярном платье[15], которого ротмистр сразу же узнал, хотя до сей поры знаком с ним не был, поскольку никто их друг другу не представлял. Это был художник Василий Васильевич Верещагин, которого Кауфман прикомандировал к себе с титулом «состоящего при генерал-губернаторе прапорщика». Увидев вошедших, «состоящий при генерал-губернаторе прапорщик» тотчас же встал, протянул Скобелеву руку и добродушно улыбнулся:
– А вот и наш гусар-шалунишка!
Скобелева бросило в жар: он терпеть не мог развязной фамильярности. А поскольку застал Верещагина за столом вместе с Жирардэ, то тут же и решил, что именно этому «состоящему при генерал-губернаторе» он и обязан приезду в Ташкент самого Жирардэ. Сухо ответив на рукопожатие, сказал неприязненно:
– Теперь я, кажется, понял, в чем состоят обязанности состоящего при губернаторской особе.
Сейчас уже Верещагина бросило в жар, но он сдержался. И даже заставил себя улыбнуться почти с прежним добродушием:
– Не горячись, Скобелев. И крестись, коли что кажется.
– Мы уже перешли на «ты»?
– С этого мгновения, – сказал Василий Васильевич. – Питаю необъяснимую слабость к натурам дерзко откровенным.
– Мишель, – по-французски начал было месье Жирардэ, и в тоне его прозвучала мягкая укоризна. – Мы так мило беседовали о Париже…
– Простите, господа, вынужден вас покинуть. – Верещагин поклонился, пошел было к выходу, но остановился:
– А ведь мы непременно станем друзьями, гусар. У меня – предчувствие.
И вышел.
– Садитесь, друзья мои, – расстроено вздохнул Жирардэ. – Никогда не следует горячиться, Мишель. Никогда. Я заказал обед по рекомендации любезного господина Верещагина. Вам необходимо извиниться перед ним, Мишель. Необходимо. И не откладывайте сего благородного поступка в долгий русский ящик.
Скобелев недовольно фыркнул, но промолчал.
Глава вторая
1Двадцатитрехлетний художник Василий Васильевич Верещагин возвращался домой в странном, каком-то раздвоенном настроении. С одной стороны, он чувствовал себя оскорбленным каким-то неясным для него, но явно гнусным подозрением, а с другой – был в известной мере очарован дерзкой искренностью молодого ротмистра. Он всегда высоко ценил человеческую откровенность, и потому это «второе» и перевешивало сейчас «первое» в его душе. Он и себя считал человеком порывистым, готовым на поступки необдуманные, продиктованные куда чаще темпераментом, нежели рассудком, но был скорее человеком решительным, правда, не терял при этом способности поступать порою импульсивно. Например, он сжег три своих картины («Забытый», «Окружили – преследуют» и «Вошли») более под влиянием минуты, чем после зрелого размышления.
Как только он прибыл в Ташкент, Кауфман прикомандировал его к себе с титулом «состоящий при генерал-губернаторе прапорщик Верещагин» только ради того, чтобы дать ему как можно больше свободы ходить, смотреть и рисовать не только быт, но и боевые действия без придирок местных командиров. И в том огромном военном лагере, который тогда представлял собою Туркестан, это оказалось огромным преимуществом, которое Верещагин весьма быстро оценил.
Он впервые приметил ротмистра Скобелева на скромной выставке собственных рисунков, организованной Кауфманом, и молодой гусар ему понравился. А приметил потому, что уже был наслышан и о безудержных попойках Мишки Скобелева, и о суточных карточных играх, и в особенности о «сардинских» дуэлях, юмор которых оценил по достоинству. Ничем иным Скобелев тогда не выделялся и мог только мечтать о той воинской славе, которая досталась художнику Верещагину.
Василий Васильевич приехал в Самарканд на второй день после его сдачи русским войскам и был, по его собственному признанию, «ослеплен и подавлен» красотою древней столицы Тимура[16]. Он бродил по городу и разъезжал по окрестностям, поражаясь, удивляясь и бесконечно зарисовывая увиденное. Помощник самаркандского коменданта майор Сергеев напрасно умолял его не рисковать жизнью понапрасну, но Василий Васильевич не обращал ни малейшего внимания на его предостережения и уговоры, ежедневно с раннего утра, а то и лунной ночью продолжая смотреть, удивляться и – рисовать.
Однако напряженные отношения с Бухарой не позволяли генералу Кауфману долго оставаться в городе. Он двинулся вперед с отрядом в полторы тысячи человек, оставив в Самарканде гарнизон численностью около пятисот солдат и офицеров под командованием коменданта барона Штемпеля. Очарованный древней Маракандой[17] Верещагин не последовал за войсками, с прежним упорством бродя по узким улочкам, не уставая восхищаться великолепием мечетей, дворцов и гробниц. Однако через несколько дней, когда он, утомленный утренней прогулкой, пил чай в доме, в котором его поселили, внезапно раздались выстрелы и дикие крики: «Урр!..» Схватив револьвер, он бросился на шум.
Как потом выяснилось, около двадцати пяти тысяч восставших узбеков по сговору с самаркандцами ворвались в город и завязали бои на его узких и тесных улочках. И бои эти длились восемь дней без малейшего перерыва.
Верещагин успевал всюду. Отбивал бешеные атаки восставших, отстреливался, вспомнив выучку в Морском корпусе, несколько раз схватывался врукопашную и только чудом выходил из боя живым. Однажды его схватили и затащили в лавочку, но подоспевшие солдаты успели его отбить.
Одна из внезапных атак неприятеля на артиллерийскую батарею оказалась особенно грозной. Солдаты дрогнули и заметались, их командир полковник Назаров напрасно кричал и даже бил их шашкой, это только усиливало панику. Тогда Василий Васильевич сам бросился вперед с ружьем наперевес:
– За мной, братцы!..
Рядом с ним было убито около сорока человек, все парусиновое пальто его было залито кровью: с того дня он ходил в атаки в одной рубашке и холщовых штанах. Поярковую[18] шляпу его сбило пулей, и Верещагин вынужден был надеть на голову чехол от офицерской фуражки, чтобы уберечься от беспощадного туркестанского солнца. Однажды пуля ударила в ложе винтовки, которое в этот момент он по счастью нес поперек груди, камнем разбило ногу, да так, что кровь с трудом остановили. Отчаянный штурм продолжался восемь дней и восемь ночей без единого перерыва; силы защитников были уже за пределом человеческих возможностей, и на военном совете решено было взорвать крепость в случае прорыва противника. Против решительно выступил только Василий Васильевич:
– Взорвать всех – проще простого и как-то уж очень по-военному. Но в крепости Самарканда не только военные и не только русские. Здесь укрылись и армяне, и мирные киргизы, и евреи, и Бог весть, кто еще, но все – с семьями. С женами, детьми, стариками. Вправе ли мы жизнью их распоряжаться? Думаю, что нет у нас такого права.
– Да их все равно перережут, Василь Васильич! – вздохнул полковник Назаров. – Нет, не прав ты. Ради чести воинской, ради знамен и пушек, которые потом по нашим же стрелять будут, мы должны взорвать всю крепость, когда своей крепости не хватит.
– Всех перережут? – тихо спросил Верещагин, и все примолкли. – Откуда уверенность такая, полковник? Да если хоть один мальчонка, хоть девочка одна крохотная уцелеет, и то – благо великое. Нет таких крепостей, чтобы ради их взрыва, ради чести, знамен да пушек хотя бы один безвинный ребенок погиб!
Весь гарнизон, все, спрятавшиеся в крепости, звали Верещагина одинаково: «Василь Васильич», как самого близкого, почти родного человека. Он таким и был. Несмотря на страшную усталость, перевязывал раненых, находил ободряющие слова для растерявшихся и даже умудрялся хоронить убитых.
– Я не помню, чтобы я спал, – говорил он впоследствии. – Порой проваливался в черноту, но никак не более чем на полчаса.
Пять раз посылали вестников из мирных киргизов, что тоже прятались в крепости вместе с семьями, и четыре раза их отрубленные головы осаждающие перебрасывали через стены обратно в крепость. До Кауфмана добрался только пятый, который и передал ему написанную по-немецки записку от коменданта барона Штемпеля: «Гарнизон в крайности. Более половины людей перебито и перерезано. Нет ни воды, ни соли». Кауфман немедленно двинулся к Самарканду форсированным маршем, поднял на штыки осаждавших, сжег базар, и только тогда распахнулись крепостные ворота.
– Наибольшим героем осады показал себя состоящий при вашей особе прапорщик Верещагин.
Таковы были первые слова коменданта крепости дважды раненного барона Штемпеля. Прежде официального рапорта.
– Верно, ваше высокопревосходительство, – прохрипел тяжело опиравшийся на винтовку унтер. – Раньше чем нашему Василь Васильичу никому крестов давать невозможно.
– А где же сам Верещагин? – удивленно спросил Константин Петрович, оглядываясь.
Бросились искать, но нашли с трудом. Василий Васильевич крепко спал в углу прохладного каземата. А когда его, не проспавшегося, доставили в штаб, где генерал Кауфман при всех объявил ему личную благодарность, заявил:
– А вот у меня нет к вам никакой благодарности. Вы ушли, крепость не устроивши.
У Константина Петровича хватило ума и такта не обратить на эту дерзость никакого внимания. И спокойно продолжить тем же задушевным тоном:
– Высоко ценя вашу храбрость и преданность Государю, я решил ходатайствовать перед его императорским величеством о награждении вас офицерским Георгиевским крестом, уважаемый Василий Васильевич.
– Вот уж нет! – закричал вдруг Верещагин. – Нет, нет и нет! Откажусь прилюдно и со скандалом!
Теперь пришла очередь свирепеть Кауфману. Вначале он просто орал, но Верещагин тоже орал в ответ. Тогда Константин Петрович переменил тон и начал его уговаривать, но упрямый, грязный, не выспавшийся и бесконечно усталый художник упорно твердил свое. Кауфман замолчал, сдвинул брови и пошел прямо на Василия Васильевича. Верещагин примолк и начал пятиться, пока не уперся спиной в стену. И как только это случилось, генерал молча снял офицерский Георгиевский крест с собственной груди и нацепил его на Верещагина.
– Я носил его пятнадцать лет с честью и достоинством. Посмейте только снять!
2Об этой истории поведал Жирардэ в общих чертах еще за обедом: подробности Скобелев узнал от самого Василия Васильевича позднее, когда они и вправду подружились. Но и услышанного сейчас было достаточно, чтобы обозвать себя дураком и надуто слушать нравоучения достопочтенного мэтра.
– Простите, мой дорогой, но как вам могла прийти в голову идея какой-то странной дуэли в полной темноте? Шутка весьма дурного вкуса, о чем его высокопревосходительство и уведомил вашего батюшку в специальном послании. Ваш батюшка написал ответное письмо, которое зачитал мне.
– И что же он пишет? – угрюмо поинтересовался Скобелев.
– Он просит его высокопревосходительство не держать вас более в Ташкенте, а командировать в отряды, действующие против номадов[19]. А матушка просила справиться о вашем здоровье и питании. Кроме того, она прислала вам посылку…
В посылке из отчего дома оказалось и отцовское вложение: бутылка отменного коньяка, что весьма обрадовало беспутного сына. В тот же вечер, едва проводив месье Жирардэ до снятого им номера в гостинице, ротмистр сунул завернутую в бумагу бутылку под мышку и отправился разыскивать Василия Васильевича.
Верещагин встретил его в изрядно перемазанном красками халате, но, видимо, со сна, а не от мольберта, и потому выглядел несколько недовольным, сказал:
– А!..
– Вот именно, – проворчал Скобелев и поставил на заваленный рисунками стол заветную отцовскую бутылку. – Давай мириться, Верещагин. Я был свински не прав.
– Мириться готов, только не за этим столом, – Василий Васильевич первым делом переставил бутылку, мгновенно оценив ее. – Неплохой коньячок нам предстоит, ротмистр. Правда, пить придется из кружек. Это тебя не слишком огорчит?
– Было бы что пить.
– Тут мы с тобой сходимся, – Верещагин притащил две солдатские кружки, кое-какую снедь и расположил все это на измазанной засохшими красками какой-то подставке. – Закуска, конечно, не ахти, но ты уж извини вольного художника.
Он сам деловито открыл бутылку, плеснул в стаканы.
– Ну?
– Прощаешь?
– Я, Мишка, искренность превыше всех качеств человеческих ценю, потому как Россия врет. Врет вся сплошь и сплошь беспардонно, привычно и равнодушно.
Они со вкусом выпили, со вкусом закусили. И только после этого Скобелев спросил:
– А где твой офицерский Георгий?
– Где-то в ящике валяется.
– Зачем же? Я свои ношу. Вот этот – Датского Королевства, а этот пожалован мне королем Сардинии.
– На мундире ордена смотрятся. А на блузе художника – извини, вроде блямбы не по чину.
– Надо по второй винной порции принять непременно, – вздохнул Скобелев. – Разговор – как на светском рауте. А мне хотелось бы по душам.
– Ну, давай по душам.
Приняли по второй и почему-то замолчали. Потом ротмистр спросил, не весьма, впрочем, уверенно:
– Ты знал, что смел до отчаянности?
– Знал? – Верещагин пожал плечами. – Нет. Скорее, наоборот. Я в детстве темного леса боялся. Особенно когда кругом – одни матерые ели. И – ветер. А они шумят и лапами машут.
– А в рукопашной как же? Там ведь не лапами, там саблями машут. А о тебе вон солдаты легенды складывают.
– Там – другое, там лица видны. Знаешь, я совершенно отчетливо помню свирепые, перекошенные какие-то рыла. Помню красные отблески пожаров на солдатских штыках и до сей поры слышу хриплые, сорванные крики офицеров, подававших команды. И, поверишь ли, какой-то голос будто шептал мне: «Ты не погибнешь. Ты все запомнишь, что увидишь, и нарисуешь потом в своих картинах».
– А что же тогда, по-твоему, воинская храбрость?
– Храбрость?.. – Верещагин снова пожал плечами, что было его любимым жестом в затруднительных обстоятельствах. – Что-то особо яростными храбрецами мне не показались. По-моему, тот, кто ярость и злобу свою сумел волею своей в себе подавить, кто и в бою ума не теряет, только тот воистину храбр. Мне, Миша, отец в детстве еще про деда твоего рассказывал, как он в атаку полк за собою вел в битве под Бородином. Ведь не темная же ярость его вела? Как считаешь?
– Не знаю, что тебе и сказать… – Скобелев неуверенно улыбнулся. – У нас на Руси издавна храбрость да отвага воинская превыше всего ценятся. Может, об этом он думал? Он же все уже доказал, и себе, и всем. Полк уж догнал его, дед ранен был, а все равно бежал. Не потому ли он, уж обессилев, уж еле на ногах держась, на врага бежал, что о своем же будущем думал? О сыновьях, обо мне.
– Мистика какая-то.
– Может, и мистика, а только отец у меня – генерал, я Академию Генерального штаба закончил, карьера впереди, если сам ее не испорчу. А ведь – крестьянский внук, Вася. Мои сестры – тоже, естественно, внучки крестьянские – и того больше. Одна – графиня, вторая – княгиня, а третья аж за герцога Лейхтенбергского замуж выходит. Не об их ли счастье дед мой Иван Никитич думал, когда, кровью истекая, искалеченным на противника бежал и бежал?.. Вот о чем я иногда задумываюсь, а это очень опасно, потому что военный человек только над картами задумываться должен.
– Над картой или над картами, гусар? – улыбнулся Василий Васильевич.
– Как над теми, так и над другими! – рассмеялся Скобелев. – Наливай, Вася, добрый коньяк кровь полирует…
Отполировали кровь полукружечками, помолчали. Потом гость сказал задумчиво:
– В серьезных делах мне еще бывать не приходилось, но в тех налетах, которые на мою долю достались, мне празднично было. Будто бережет меня кто-то, будто и пуля та еще не отлита, и сабля та еще не откована, которые душу из меня выпустят. Странно все это, Вася, не правда ли?
– Наверно, это и есть храбрость прирожденная, – сказал Верещагин, подумав. – Для тебя и бой – праздник, а для меня – тяжкая необходимость. О себе я не думал, не до того было. Крики, стоны, вопли кругом нечеловеческие, какой уж тут праздник, когда вокруг страдания да кровища.
– Но в то, что уцелеешь, ты верил и в этой кровище. Ведь верил же, верил!..
– Говорил я уже про голос. – Василий Васильевич помолчал и вздохнул. – Только за все кредиты, Михаил, рано или поздно расплачиваться приходится.
– И часто ты думаешь об этом?
– Если и шевельнется такая мысль хоть на миг единый, тотчас же из себя ее гоню, – очень серьезно сказал Верещагин. – И ты, Скобелев, гони ее беспощадно. Чему быть, то и должно быть, того не миновать. Вот за это и выпьем.
– За миг единый? – улыбнулся ротмистр.
– В таком миге вся жизнь, Мишка. Только он и ослепляет. Остальное – серенькое.
Оба встали и весьма торжественно чокнулись оловянными солдатскими кружками.
3Вскоре месье Жирардэ решил воротиться в Москву. Не только для того, чтобы, как он выразился, засвидетельствовать Ольге Николаевне свое глубочайшее уважение, но и заверить ее, что любимый сын не дает ни малейших поводов для беспокойства. Михаил Дмитриевич очень любил и почитал своего учителя и воспитателя, но был рад его отъезду. Он не выносил «надзора за собой», как он выражался, даже со стороны весьма близких людей.
Поэтому его неприятно насторожило желание князя Насекина остаться в Ташкенте на неопределенное время. Скобелев заподозрил в этом желании тот же элемент надзора, прямо спросил Насекина об этом, но князь лишь смущенно улыбнулся:
– Господь с вами, Мишель, я не гожусь на подобные роли. А причина, почему я решил остаться, весьма прозаична и проста, хотя и представляется мне сегодня чрезвычайно благородной. Вот почему мне показалось, что именно здесь, на воюющей окраине, я наконец-то найду занятие по душе.
– Уж не решили ли вы, Серж, записаться в Туркестанскую армию волонтером?
– И на это я не гожусь. Однако здесь столько больных, раненых да и просто неприкаянных людей, что я решился открыть в Ташкенте нечто вроде Дома призрения с лечебницей при нем. Кажется, это единственная сфера, где мое состояние, связи да и я сам можем принести посильную помощь.
Они беседовали в том же единственном ресторане, в котором недавно Скобелев познакомился с Верещагиным. Пришли сюда пообедать после проводов месье Жирардэ, выпили по рюмке за его счастливую дорогу, но потом бутылку Скобелев приканчивал в одиночестве.
– Что вы намереваетесь делать вечером, Мишель?
– Вечером я намереваюсь навестить некую весьма аппетитную брюнетку. В присутствии ментора я воздерживался от подобных визитов, но длительный пост – не для меня. Если желаете, можем пойти вместе: у нее найдется очаровательная подружка.
Князь улыбнулся бледной улыбкой:
– Увы, мой друг. Я ценю дамское общество, но предпочитаю дам скромных и умных дамам, приятным во всех отношениях.
– Мы с вами – полная противоположность решительно во всем, – вздохнул Скобелев. – Если вы – образец, то я, представьте себе, устроен наоборот. Вполне возможно, что во всем виновато первое общение с особами женского пола, кто знает. Только так случилось, что лет двенадцати от роду, что ли, я до безумия влюбился в девочку моего возраста, дочь соседнего помещика. Мы мило играли с нею, пока я однажды не почувствовал, что буквально сгораю от желания наброситься на эту милую воспитанную скромную девочку, как зверь. Тогда я убежал от нее, но не спал всю ночь, боясь, что проснусь с тем же звериным желанием. И валялся в кровати, изнемогая от безумного внутреннего перенапряжения: вам, Серж, уверен, тоже знакомо это отроческое чувство пробуждения. И тут вдруг вошла горничная, довольно миловидная девица лет этак восемнадцати. Она что-то сказала, но совершенно не помню, что именно, потому что я вскочил и бросился на нее головой вперед. Я рычал, плакал и бодал ее пышную грудь собственным лбом, пока не прижал к стене. Не знаю, что было бы далее, если бы она испугалась или закричала. Но она не испугалась и не закричала, а все поняла. И приняла мой порыв с лаской и полным сочувствием, быстро и вполне достойно избавив меня от всех моих внутренних дьявольских мучений. И с той поры я чувствую себя невероятно скованным и неуклюжим в обществе умненьких скромных девиц и блаженствую в окружении непритязательных представительниц полусвета. И тут уж, видно, ничего не поделаешь: по всей вероятности, детский опыт закрепляется на всю жизнь.