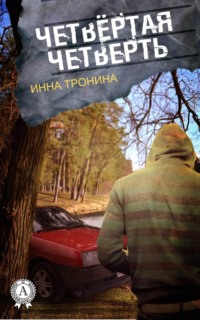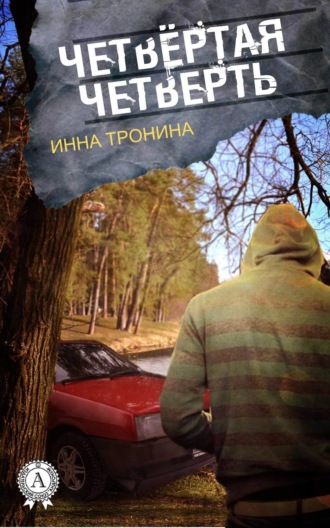
Полная версия
Четвёртая четверть
Надо обед разогреть – через полчаса мать вернётся. Лишь бы не упала опять на улице, как тогда в Лефортово. Мне оттуда какие-то тётки позвонили. Сказали, что мать в больнице, а собака у них. Я всю ночь передачу собирал, а потом ещё три часа ждал, пока её приняли. Школу прогулял, конечно. Но лучше бы всё в порядке было с матерью, и я пошёл на контрольную.
Тогда её еле-еле спасли. Теперь каждый вечер боюсь – а вдруг опять?… Нет, она не должна ещё прийти – в метро, наверное, едет.
Я взял мобильный телефон и отправился, пардон, в туалет. Устроился поудобнее и попытался подумать совсем про другое. Не о Франсуазе и не о том случае с матерью. А телефон вдруг запиликал, и я чуть с горшка не свалился от неожиданности. А потом ответил – не своим голосом. Уже охрип – простудился, наверное.
– Слушаю!
А сам стал застёгивать «молнию». Будто бы тот, кто звонил, мог меня увидеть. Мало кто этот номер знал – только мать, Олег и Андрей Озирский. Остальные звонили на обычный телефон.
– Русланыч, ты?
Озирский меня еле узнал, а я его – сразу. Почему-то я решил, что голос у него должен быть печальный. Ведь первого апреля жена погибла. За четыре дня не очухаешься. Вон, моя бабушка Ирина Кирилловна, когда дед Василий умер, сошла с ума и оправлялась по углам. Озирский, конечно, не такой, но всё-таки должен горевать.
– Ага, я.
Интересно, шеф в Москве или нет? А. может, вообще в Париже? Хорошо он держится. Никогда бы не догадался, что у него горе, если б не знал.
– Чем занимаешься?
Раз Андрей так повёл беседу, значит, светит работёнка. Хочет убедиться, что я сегодня свободен. Не из-за границы звонит, точно. Или завтра приедет, или уже в Москве.
– Да вот, в уборной сижу.
Мне захотелось Озирского рассмешить. А то голос у него чужой. В смысле – без шутливости и хулиганства.
– Понял. Занятие, не спорю, преинтереснейшее. А ещё что делаешь?
– Думаю вот.
Я и вправду думал, когда шеф позвонит. Но не знал, можно ли про такое говорить по телефону.
– О чём?
– О Черноморском флоте.
– Вот те на! – Озирский стал, как всегда, торопливым и деловитым. – И что на сей счёт лично ты скажешь? Может, нашёл решение проблемы? Ась?
– Я не о решении думаю, а он том, что вдруг не поделят? Облавы опять по Москве пойдут, а я ведь Величко. Олег кругом записан украинцем! Сейчас в Чечне война, так за это страдаю. Сегодня опять соседка чернозадым обозвала. А дальше за второго папашу стану отвечать? Неохота, понимаешь?
– Действительно, проблема. – Андрей немного помолчал. – Ничего, будем их разрешать по мере возникновения. Не переживай. Мать дома?
– Должна скоро прийти. У неё кружок в семь кончается. Пока доберётся…
– Про Франсуазу передал?
Озирский понизил голос. А у меня вдруг глаза защипало, как будто только дошло. Ведь никогда я Фрэнс больше не увижу, и мать не увидит.
– Нет, не передал.
Я ненавижу врать, если только для дела не надо. А перед Озирским я должен всегда оставаться честным.
– Ты лучше сам, а? Я же ничего объяснить не сумею. А мать опять за сердце схватится. Скоро приедешь?
Я очень хотел, чтобы Андрей нас навестил.
– Откуда звонишь-то, понять не могу? Из Питера?
– Со Звенигородки. Что, номер не высвечивается? – удивился Андрей. – Не ждёте вечером гостей?
– Нет, у нас свободно. А номер я не посмотрел. Глаза слезятся.
Даже если бы и ждали кого, Озирскому всегда зелёная улица. Очень хочется узнать про Франсуазу. Кроме того, у него дело ко мне есть. У меня на это нюх. Давно шеф не беспокоил, с прошлого года. Тогда подростковую банду брали на бензоколонке.
Они заживо сожгли парня – своего дружка, между прочим. С моей помощью, убийц нашли и изобличили. Кому четырнадцать уже исполнилось, осудили. А остальным, получается, можно страшным образом людей уничтожать. Если бы я Уголовный кодекс сочинял, то казнил бы преступников тем же способом. То есть козлов с заправки сжёг бы живыми.
Андрей боится, что и меня в отместку бензином обольют, и зажигалкой чиркнут. Но пока ничего, не достают. Да и заправка эта от нас далеко – на Осташковской улице, на другом конце Москвы. А где я живу, они не знают.
– Тогда часиков в девять я буду.
Озирский всегда давал хозяевам время приготовиться. Нахаляву никогда не вваливался, за исключением тех случаев, когда исход дела решали минуты.
– Хочу с Таткой потрепаться. И для тебя есть интересная задачка. Ты как, уроки сделал уже?
– Сделал.
Всё-таки я соврал. И Андрей понял, что я соврал. Мы взаимно мысли читаем. Часто я подумаю, а он говорит. Или наоборот.
– Сделал…
Озирский тяжело вздохнул, но приставать с учёбой не стал. Если я нужен позарез, не заваливать же из-за уроков всю операцию! Я то и дело глотал слюну, чтобы горло так не болело. Да и в голове сильно постукивало. Температура поднимается, знаем. Может, и уроки делать не надо. Лишь бы заболеть не тяжело. Схожу к врачу или вызовем его на дом. Я в школу пока ходить не буду, а стану работать на Андрея. Но вряд ли шеф позволит. На задании нужно быть здоровым. Чувствую, придётся попотеть, и не только от аспирина.
– Как Сергей, жив ещё?
Лучше бы Андрей об этом не спрашивал!
– Он захворал. Я его к знакомому врачу отвёз. Простудилась птичка.
Озирский и матюгнуть за такое может. Я уже давно замечаю, что он к Гетке Рониной неровно дышит. А она, конечно, очень расстроится. Но я надеюсь, что с Сергеем всё кончится нормально.
– Сказали, что вовремя успел, – успокоил я шефа.
– Вот и доверь тебе живую душу…
Озирский сказал это так, будто я ему ни в чём никогда не помог, а делал одни только гадости. Но развивать тему не стал. Скушал обиду – ради дела. Я ведь тоже не люблю, когда меня ругают. Сам понимаю, что виноват. Андрей всегда знает, как себя нужно вести с людьми, и сейчас тоже не промахнулся.
– А Вилли здоровый ещё?
– Вилька у Олега на Ленинградке, три дня уже. Не ругайся, – примирительно попросил я.
Уж очень болело горло, да и правое плечо. В то место мне осколок попал, когда брали хурал, и взорвалась газовая плита.
– Приезжай. Я сейчас курицу разогрею, на троне. Хочешь? Мать пирог спечёт…
– На троне? – Озирский почему-то надолго замолчал. Потом согласился: – Ладно, я водку привезу. Помянем Фрэнс. Через несколько дней её гроб опустят в фамильный склеп де Боньер на острове в Средиземном море. А нам надо дальше жить, Божок.
Озирский назвал меня на кличке – так бывало, когда мы вместе работали. А между заданиями я был у него Русланычем.
– Жить и работать. Я поеду мимо магазинов. Что взять?
– Лимонов. Может, кураги. И помидоров с огурцами, если будут. В универсам недавно ходили. У нас всё есть.
Я подумал, что мне неплохо было бы полизать мёду, чтобы поправиться скорее. Но говорить я ничего не стал.
– Если увижу, привезу.
Озирский мог накупить ещё и не того. И матери-то букет роз цвета слоновой кости он привезёт обязательно. Шеф вообще к женщинам без цветов не ездит. Конечно, и Липке Бабенко, у которой остановился на Звенигородке, привёз и розы, и подарок. Не только её, но и сыну Андрейке. Ему ещё и года нет.
Положение обязывает. Андрей теперь респектабельный предприниматель. А для меня он просто друг, как большой парень. Я всё время забываю, что у него есть внук. Интересно, такси он возьмёт или на казённом «мерсе» прикатит? Раньше Озирский дамам руки никогда не целовал, а теперь это делает всё время. Он выучил правила поведения в свете, да и я кое-что усвоил.
Например, если поднимаешься с дамой по лестнице, нужно идти позади неё. И она, в случае чего, упадёт на меня. А, когда спускаешься, для того же самого она должна идти позади. Но я всё время в лифте поднимаюсь. А там главное – с педерастом каким-нибудь не оказаться вместе. А то клавишу «стоп» между этажами нажмёт – и привет.
– Итак, я буду у вас в девять. Все подробности при встрече.
Андрей отключился. Я вылетел из туалета, как ошпаренный. Без двух восемь, а в животе уже холодок. Если мать сейчас не сунет ключ в скважину, я оборзею. Блин, я сильно пугливый стал. Неужели ей нельзя поболтать с приятельницами после занятий, по магазинам пройти? Мать ведь не знает, что Озирский объявился. А я чайник поставлю, выпью чашечку. Чтобы не охрипнуть окончательно, пока Андрей приедет.
Я думал о чае, а сам слонялся по освещённой квартире просто так. В итоге у меня закружилась голова. Я отдёрнул капроновый тюль, проверил, нужно ли полить кактусы. Решил, что, должно быть, пора. Взял лейку, сходил на кухню за водой.
У нас четырнадцатый этаж. И там, внизу, не различить, подходит к дому мать, или заворачивает Озирский на машине. Мать-то близорукая, нужно её у метро встречать, чтобы в лужу не забрела. Очки не носит – стыдно. Если не упадёт, пальто точно испачкает.
А оно не простое – от престижного кутюрье. Только фамилию не запомнил. На день рождения дал ей «баксы» – как раз получил за поимку банды на заправке. Мать купила чёрно-оранжевую жуть до колена, повесила в шкаф. Долго не решалась надеть, а теперь не снимает. И сапоги у неё на шпильке. Сколько раз говорил, что не те у нас дороги! Всё равно носит. По три раза каждый каблук приколачивала. И добро бы низкорослая была, кривоногая – им без каблуков никак. А у матери такая фигура – закачаешься…
Я открыл кран в ванной, потому что на кухне – полная мойка посуды. Из-за попугая и всякого другого не сумел вымыть. Подставил лейку, прислушался. Почувствовал вдруг, что лифт остановился на нашем этаже. Не знаю, как другие, а я всегда слышу шаги и различаю их.
Вот, сейчас мать идёт от двери лифта в коридор, отпирает замки. Я бегу к ней, как угорелый, оставив лейку в ванне. Беру у матери сумки, а она наклоняется, целует меня в лоб. Наверное, чувствует жар, потому что мгновенно хмурится. А глаза у неё голубые, прозрачные, жалобные.
Я начинаю с порога говорить, чтобы отвлечь мать от своего лба. Между прочим, мне это удаётся.
– Как у тебя дела, Русенька?
Мать чувствует, что я о чём-то молчу. Пытается сообразить, но не может. Мне хочется сказать ей приятное, и я говорю.
– Да ничего, нормально всё. Сейчас Андрей звонил. В девять часов приедет к нам.
Я немножко ошибся. Озирский привёз матери не розы, а хризантемы – девять штук. Сам поставил их в огромную фарфоровую вазу. Потом выложил индейку, запечённую в фольге, килограмм помидоров, столько же огурцов, курагу с орехами, коробку конфет «Ассорти» с жёлтыми розами. На такую картинку, между прочим, можно и обидеться.
Никакие поминки не обойдутся без «пузыря». Андрей поставил «Смирнофф». Мы выпили, не чокаясь. Мать уже рта не открывает, когда шеф наливает мне. А он считает, что, если может засылать меня в банды, то отбирать мою законную дозу – смертный грех.
– Курица на троне не получилась, – сказал я. – Неловко подавать её с одной лапой.
Мать, как всегда, тщательно вытерла ветошью сапожки, почистила пальто и шляпу.
– Второй раз про эту курицу слышу, – признался Андрей. – А попробовать, видно, не судьба.
Шеф сегодня был в чёрной водолазке и таких же брюках. Я почему-то жду, когда на его висках растает снег. Ведь он без шапки пришёл. И не могу поверить, что Андрей такой седой.
– Обязательно в следующий раз сделаю, – пообещала мать.
Она достала из духовки горячий пирог «Гости на пороге», который еле успела сделать до прихода шефа. Он сказал, что взял на Пресне такси.
– Курочку посажу на баночку и угощу, – продолжала мать. – А когда ты впервые о ней услышал?
Странно вообще-то. Франсуазу мы уже помянули. Но что с ней случилось, Андрей так и не сказал. Знаем, что погибла, но убийства не было. Слепой рок, нелепый ужас – так объяснил Андрей. Я вижу, что и ему сил не хватает, а ведь мужик железный. Мать плачет, но как-то про себя. Она одна так умеет. По крайней мере, из тех, кого я знаю.
– В первый раз меня собирался угостить ещё полковник Ронин.
Озирский налил себе водки, выпил и закусил пирогом. Я макнул пирог в рюмку и положил в рот.
– Да, Андрей, я всё хотела спросить… Как Антон Александрович?
Мать, я вижу, понимает, что Андрей про Франсуазу пока не готов рассказать. А у меня горло болит так, что пищать охота. Видно, ангина приклеилась.
– Ему не лучше? Ну, хоть немножечко?
– Понимаешь, Татьяна, иногда мне кажется, что Ронин совершенно нормальный. Просто хочет немного отдохнуть. Ведь он так много работал, несколько лет не был в отпуске. Только перед самой трагедией успел съездить на родину, в Борисовку…
– Где это? – удивилась мать.
– В Белгородской области.
Озирский говорил почти шёпотом. Или я, сонная тетеря, его плохо слышал. Я не знал генерала Ронина, не видел его никогда. И потому очень не переживал. Разве что жалко было Гету и Маргариту Петровну. Они уже с ума сошли из-за ранения отца. Ведь он может навсегда остаться без сознания. А из госпиталя его выпишут – не век же там держать. И придётся ухаживать без всякого смысла. В конце концов, генерал умрёт – например, от воспаления лёгких.
Андрей говорил в свой собственный кулак – как будто затыкал себе рот:
– Практически все его раны залечены ещё зимой. В том числе и перелом основания черепа, и ушибы внутренних органов. На лице шрамы, но ими можно пренебречь. Ведь глаза и зубы целы.
Озирский сейчас и красивый, и страшный одновременно. Он смотрит на нас расширенными глазами. На его лбу – глубокие морщины. Похоже, что кожа и кость треснули. Он обещал дать мне интересное задание, но как будто забыл или передумал. Сейчас он не обращал на меня никакого внимания, смотрел в окно.
– Антону сделали все операции, какие только могли сделать. Как говорят врачи, ухудшений нет, но и улучшений пока не предвидится. Массаж, физиотерапия, лечебная физкультура, медикаменты – всё это Антон имеет. Иногда создаётся впечатление, что он давно очнулся. Я смотрю ему в глаза, вижу осмысленный взгляд. Просто не верится, что какой-то плёвый осколочек напакостил больше, чем весь остальной металл, огонь, взрывная волна. Такой тренированный мужик не может долго быть в отключке. Это нереально. Ронин просто прикалывается, смеётся над нами.
Озирский потрепал меня по чёлке, давая понять, что уговор остаётся в силе. Мы ещё обсудим свои дела. Почему бы и нет? Сейчас начало одиннадцатого. Отправим мать спать, а сами побеседуем. При ней нельзя – трусиха страшная. Стресс её угробить может.
– Ронин очень внимательно смотрит на меня, и я сам начинаю сходить с ума. Кажется, что он вот-вот возьмёт меня за руку, скажет: «Оклемался, порядок!» И от этого ожидания, постоянно и бесполезного, я сам начинаю бредить.
Андрей так сильно хрустнул пальцами, что мне показалось – сломал.
– Антон улыбается, как раньше. Смотрит телевизор, проявляя весь спектр эмоций – от радости до гнева. Но молчит…
Озирский двумя кулаками так ударил по столу, что я испугался. Мать обомлела тоже. Андрей ведь каратист. Удар у него, как у льва – быка убьёт спокойно. Он доски ломает, кирпичи дробит. А мебель у нас хлипкая, хоть и итальянская.
– Молчит! Только слушает. Я каждый день клянусь, что не приду больше. Но прихожу и бессознательно жду, что генерал скажет мне: «Привет!» Татьяна, не тебе объяснять, как это тяжко. Теперь все знают, что я в трагедии Ронина невиновен. Остаётся только ему самому объяснить, почему так вышло – когда в себя придёт. Только бы без параличей обошлось, без прочих негативных последствий! А если он вечно будет лежать, не простив меня, я сам себя изведу. Я ведь не проверил днище «мерса», не уберёг… Но мы должны переговорить, разобраться во всём. Я хочу услышать его голос, живой голос, понимаешь? Он ведь был такой красивый – баритональный бас…
Мать стала гладить Андрея по голове, утешая. Я всё понимаю, но сердце противно кольнуло. Они ведь оба пьяные, теперь свободные. Мало ли что может случиться? Ведь нравятся друг другу, а в таком состоянии всякое бывает. Препятствовать не могу – не моё дело. Придётся деликатно покашлять. Я хотел потихонечку, а сам чихнул так, что мать в ужасе отдёрнула руки. В глазах её стояли слёзы.
– Я ещё заметил, что Ронин очень помолодел – лет на пятнадцать, – продолжал шеф. – Этот феномен ещё не объяснён. Ведь с горя обычно старятся…
Озирский весь вспотел. Мать – тоже, как всегда после водки. Всем нам стало жарко на кухне. Форточку бы открыть, но никак не встать. Ноги у меня стали ватными.
– Антон может вернуться. А вот Фрэнс не вернётся уже никогда. Я не говорил ещё, как именно она погибла?
Озирский в упор смотрел на меня огромными зелёными глазами. Он смахнул пальцами слёзы. Мать уже рыдала в голос, закрыв лицо руками. Меня же горло отвлекало от всего. Хотелось пойти в спальню и прилечь. Но я не мог, не хотел оставлять их одних.
– Нет, Андрюшенька. Мы вот ждём с Русиком.
– Есть у нас в Питере Каменноостровский проспект. Раньше он назывался Кировским. Там начали по весне балконы падать – на головы людям. Никогда такого прежде не было.
Озирский вдруг улыбнулся – слезливо, как пьяный. Он будто бы до сих пор ничего не понимал. Мать пыталась оттереть размазавшуюся помаду. Волосы её мокрыми сосульками повисли над тарелкой. Я вилкой ткнул себя в ладонь посильнее, потому что ничего не соображал.
Андрей полез за сигаретами. Я хотел попросить, но при матери не решился.
– Не сосулька? Неужели балкон, Андрюша?
Мать выдохнула дым, похлопала своими тяжёлыми веками. Какая же она красивая, даже сейчас! И почему мне никак такую девчонку не найти?…
Я увидел, что Андрей весь дрожит. Меня тоже познабливало. Может, мы оба чем-то заболели?
– Мэр* довёл город до полной разрухи. Питер снегом занесён, почти как в блокаду. Лёд в полметра толщиной. Ни разу его не скалывали – даже в центре. И песком не посыпают. Сугробы намело в человеческий рост. Про сосульки уже не говорю. Само собой, что люди от них гибнут. У нас ведь климат влажный, всё время ветер с моря. И такие бороды намерзают! Так теперь балконы стали рушиться. Особенно в центре, в старом фонде.
– А у вас тоже выборы будут в этом году? – спросила мать, всхлипнув.
– Выберут того же самого, куда денутся!
Озирский скрипнул зубами, дёрнул кадыком. Он у Андрея торчит, как камень. Оттого и голос низкий.
– Презентации, вояжи, скачки-рауты, дискуссии, политическая трескотня… И нуль дела, полный нуль! Не Северная столица у нас, а форменный хлев. Дороги, как после бомбёжки. Ухабы, рытвины, и всё это подо льдом. И сплошные заносы, которые никто не расчищает. У меня в агентстве так парень погиб. На захвате уцелел, а когда ехал домой, на автобусную остановку налетел трейлер. Его занесло на проезжей части. Трейлер, вдумайтесь! А что говорить о легковушках? Я ведь Павлика специально отправил на автобусе, чтобы он за руль после бессонной ночи не садился. Предлагал отоспаться в офисе, так ему срочно домой потребовалось. Свободных машин не оказалось. И ехать-то недалеко – на Торжковскую улицу. Он в том доме жил, где почта. И вот – результат. Мало мне двух погибших, мало Ронина. Теперь ещё и Франсуаза! И после каждого случая на меня – косые взгляды, проверочки под благовидными предлогами. Ведь дыма без огня не бывает. Отсидел в СИЗО три недели. А вдруг криминал имеется?
– Неужели на тебя свалили, что жена погибла? – Мать чуть не упала в обморок.
– Не впрямую, конечно. Но чегой-то снова затаили. Мне не мерещится, Татьяна. Агентство давно хотят прикрыть. Вернее, поменять руководство. Курочка-то золотые яички несёт. Может, я и сам уйду – лишь бы сохранить «Брянский лес». Контора прибыльная, нужная. Не могу ею жертвовать ради своих амбиций. Возьму на себя грехи – свои и чужие. Мне не привыкать носить тяжести – грузчиком был. Пусть другим полегчает. – Озирский потянулся, размял торс. – А мэр у нас хоть куда! Плевать, что городом не занимается. Лишь бы демократом был.
– Андрей, не обижайся, – попросил я. – Не смог передать про Франсуазу. Мне так её жалко, что просто не передать. Как там всё произошло? Я вообще думал, что ты в Париже.
– В Париж я не поеду. Мне это запретила бывшая тёща, мать Франсуазы. – Андрей усмехнулся правым углом рта. А левый замер, как пришпиленный, – ладно, ей простительно, имеет право. Селья-Пилар винит меня, хоть и постоянно предупреждал Фрэнс, просил её не рисковать. А она любила щекотать себе и другим нервы. Так её воспитал отец, и мать об этом знала. Но нужно же найти козла отпущения! Обвинять стихию, рок, судьбу как-то несерьёзно. Требуется враг во плоти. Я получил право только сфотографировать Фрэнс в морге и в гробу. Ещё у меня остались её прижизненные снимки, а также Юлека и Маньки. Теперь детей никто и никогда так не назовёт. Отныне они – Жюльен и Мари де Боньер. Селья советовала не судиться с ней – всё равно проиграю.
– По-моему, бабушка сошла с ума! Дети остались без матери, а она ещё их и отца лишает…
Моя мать возмутилась до крайности. И я тоже сжал кулаки. Как можно отбирать детей у человека, которому и так больно?…
– Вполне возможно, что у неё поехала крыша, – легко согласился Озирский. – Селья-Пилар потеряла единственную дочь, да ещё столь страшным образом. Ведь от головы Фрэнс практически ничего не осталось. Снимки страшные, но они для меня одного. И я никому их не покажу, сколько бы лет ни пришло. Даже тебе, Божок. – Андрей похлопал меня по спине. – Верю, что жалеешь Фрэнс. Но это другое. Тебе не понять. И не нужно понимать. А мы с тобой немного погодя поговорим о другом.
Озирский взглянул на стенные часы – без семи одиннадцать. Мать устала – надо её отослать. А потом – к делу.
– Андрюша, и ты отказался от детей? Без боя?
Мать роняла ложки-вилки, локтём чуть не смахнула на пол рюмку. Я её поймал уже в полёте.
– Тебе это так просто сделать?
– Не просто. И суда я не боюсь. – Андрей достал ещё одну сигарету. – Но у меня есть ещё дети. А у Сельи эти внуки – единственные. Муж давно умер. И вообще, испанцы – люди очень эмоциональные. Их любовь деспотична. Фрэнс часто жаловалась, что мать буквально вздохнуть не даёт. И всё – от нежных чувств. Я не могу отказать женщине, если она от многого просит немножко. Возможно, я виноват, что первого апреля не поехал с Фрэнс в обменник. Она захотела продать франки*, и именно на Петроградке. Дороги, как я уже сказал, хуже некуда. Ваши магистрали хоть солью посыпаны. А у нас даже в респектабельных кварталах чёрт ногу сломит. Я боялся автомобильной аварии. Фрэнс водила машины на огромной скорости. Она обжала лихачить, но это раньше. Потом уже остепенилась. Когда в последний раз поцеловала меня у порога, пообещала быть осторожной. Я собирался в офис, а оттуда – в посёлок Пушной. Там мент прикончил отца своего друга. Меня попросили расследовать – сочли самым беспристрастным…
Озирский глотал дым, не вдыхая его. Мать лениво собирала со стола. Мы, как оказалось, почти ничего и не съели.
– Когда я вернулся в офис, весёлый и довольный, секретарша встретила меня вся в слезах. Она – вдова. Знает, что такое свою половину терять. Мне удалось собрать неопровержимые улики, припечатать наглеца. Я даже не сразу понял, почему Светка плачет. Оказывается, в половине десятого утра погибла Франсуаза…
Андрей вытер предательски заблестевшие глаза носовым платком. Мать снова принялась гладить его по щекам, по волосам.
– Франсуаза припарковала машину у тротуара Каменноостровского проспекта, вышла… Нет бы задержаться на две минуты! И кусок лепнины упал бы, не задев… Там ведь ни флажков, ни ограждения не было. И дворник не стоял. Я видел тот балкон – его оставшуюся часть. Красивая фигурная решётка, третий этаж. Господская квартира. Упала совсем небольшая часть лепнины. Но и того хватило, чтобы разбить голову Фрэнс, как яйцо. Свидетели дали показания, что всё произошло совершенно неожиданно. Камень как будто поджидал жертву. Кто знает? Может, это действительно судьба. Обломок развалился на части. Второй кусок упал на крышу иномарки, а наша «тачка» не пострадала. У свидетелей, конечно, шок. Двое даже заикаться начали. Зрелище для непривычных людей страшное. Да и для привычных тоже…
– А почему балкон-то упал? – Я навалился локтями на стол. – Не знаешь?
– Сейчас неизвестно, проводится экспертиза. Высказываются лишь предварительные версии. Предполагают, что в трещины попала вода, замёрзла. Зима выдалась очень суровая, и эти щели расширились. Прочность, естественно, понизилась. А весной лёд стал таять… Но это – не окончательно. Гипотез множество, но ясно одно – фонд трухлявый, балконы не ремонтируются вовремя. Только теперь взялись за ум. Будут срезать те, что уже совсем «на соплях». По всей Петроградке флажки висят. Дворники со свистками прохожих гоняют. Ладно, может, кому-то ещё жизнь спасут. Но денег, мне сказали, на обрушение балконов городе нет. Заметьте, а на всякие развлечения мэра – пожалуйста! На один балкон уходит по двадцать миллионов рублей. Там же не только балкон демонтировать надо, но и трассу троллейбусов отключать. Провода обрезать, делать временную подвеску, включать всё снова. А после ещё приваривать решётку к балконной двери снаружи. У нас ведь народ какой? Им скажут, что балкона больше нет, а мужик спьяну забудет и выйдет покурить… И до гибели Франсуазы жилищные службы надеялись, что всё обойдётся, рассосётся, пройдёт мимо.