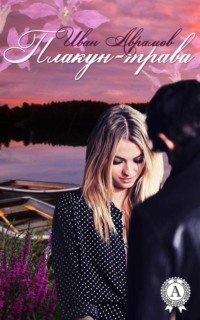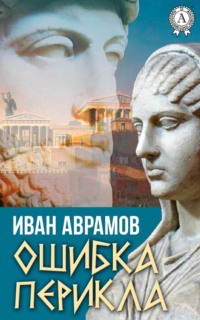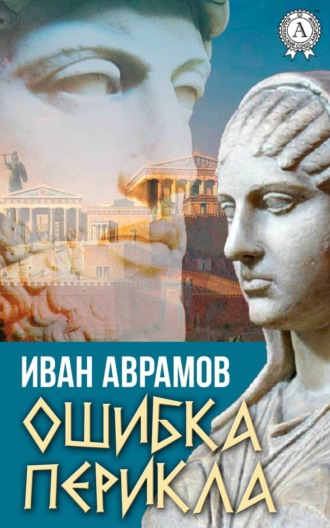
Полная версия
Ошибка Перикла
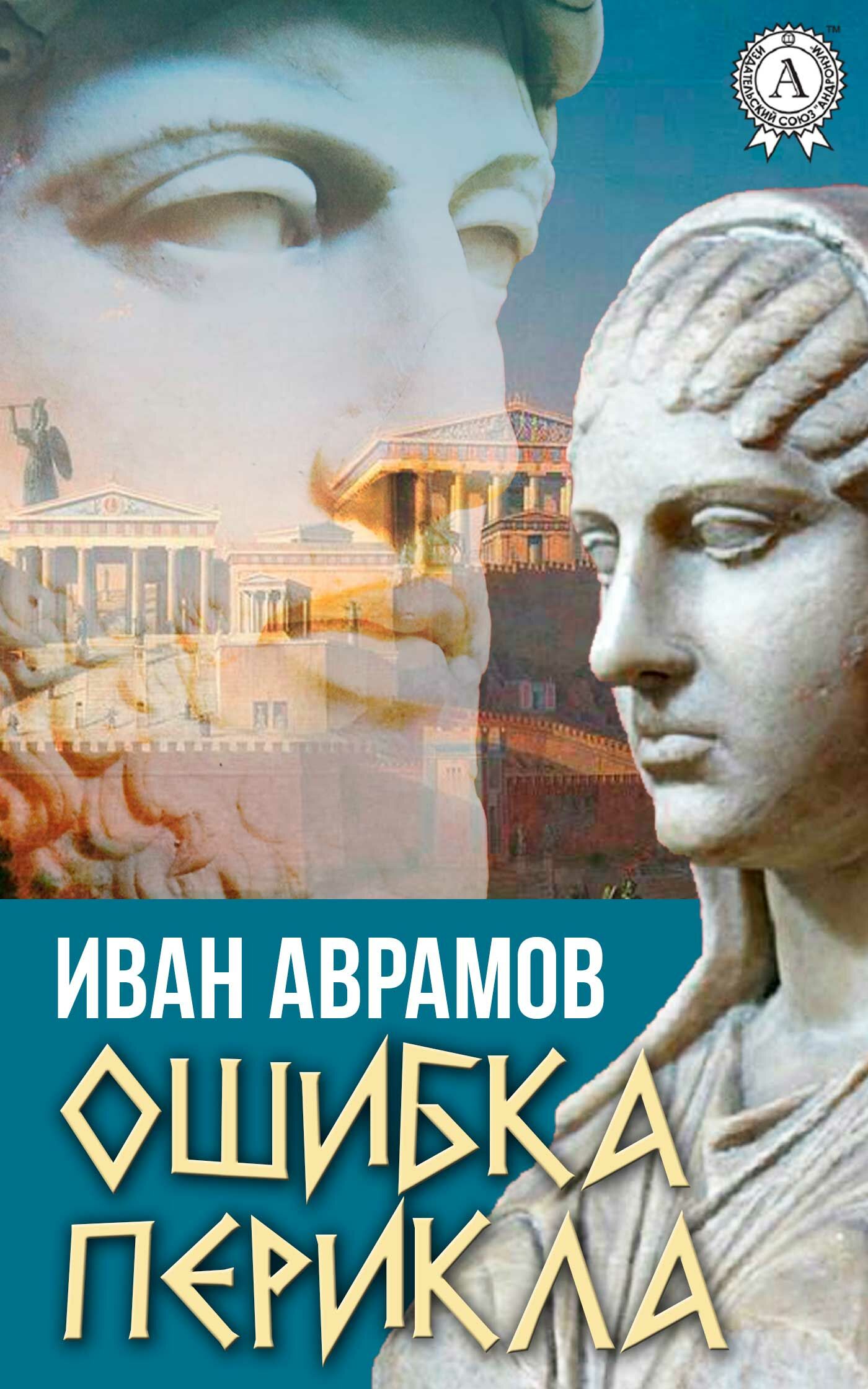
Иван Аврамов
Ошибка Перикла
Роман
Сыну Юрию и дочерям Юлии и Екатерине с верой в их счастливое будущее посвящаю
ГЛАВА I
Иногда среди ночи Перикл просыпался оттого, что Аспасия ласкала его осторожными, вкрадчивыми, предельно нежными прикосновениями языка, из которых складывалась непрерывная дорожка, она стекала сверху вниз – сначала плечо, потом грудь, живот, и от этого поцелуйного пунктира сон быстро и неотвратимо разбавлялся явью – так фиал [1] доброго критского вина теряет крепость от чаши чистой воды. Перикл знал, что самые невыносимо сладкие мгновения наступят тогда, когда ее уста, зубы, язык, десны, нёбо найдут то, что искали – Перикл, кажется, совсем переставал дышать, неслышно, точно настигнутый внезапной судорогой, напрягался каждой клеточкой, явственно ощущая, как распрямляется, словно удлиняясь, все его тело, и если бы не задержка дыхания, не полная, словно у поваленной наземь статуи, неподвижность, со стороны могло показаться, что он, как и раньше, крепко, безмятежно спит.
Так было и сегодня. Он уже окончательно проснулся, но абсолютно ничем не выдавал себя. Подумал, что из всех женщин, которых знал, никто, даже первая жена, от которой много лет пребывал в ослеплении, не может сравниться с Аспасией. Ложе любви – вот ее Олимп, а сама любовь – пряный терпкий воздух, которым она дышит. Во всей Элладе вряд ли отыщется кто-нибудь искуснее Аспасии в любовных изощренных и, что крайне важно, искренних ласках. Усилием воли Перикл задавил в себе рвущийся наружу сладострастный стон, ему следовало отвлечь себя какой-нибудь трезвой мыслью, и он тут же сосредоточился на маленькой дилемме: что, интересно, сейчас возобладало в Аспасии – естество, природное начало или выучка гетеры? Если честно, он уж не в первый раз пытался в этом разобраться, и ответ находился, вот только Перикл не был уверен, что рассудил правильно. Сейчас он подумал: «Наверное, прав Анаксагор, который считает, что ничего божественного в природе Солнца нет, это всего-навсего раскаленный добела кусок камня, по сравнению с которым вся Эллада – словно песчинка. Если это так, тогда Аспасия – микроскопический осколок Солнца, она полыхает сама и воспламеняет меня, заставляя забыть, что между нами разница в целых двадцать лет».
Все-таки странно: Перикл переступил порог гинекея [2], когда лишь свечерело, а рабыни едва успели воскурить в спальне амбру. Аспасия, завидев мужа, велела им удалиться; всю первую половину ночи они, будто изголодавшись после долгой разлуки, хотя на самом деле никто никуда не отлучался, предавались бурным любовным утехам, и Перикл в эти минуты опять-таки совершенно не замечал, что давно разменял шестой десяток – в объятиях Аспасии это было решительно невозможно. Потом наконец незаметно слетел Морфей, сын Гипноса, но, видать, на сей раз крылатый бездельник решил не утруждать себя слишком, иначе с чего бы это Аспасия проснулась, словно за окном уже белый день?
Иногда страсть выжимает последние соки, и зрелый муж, бывает, уподобляется жеребцу, которого оглушили перед убоем: только что стоял на ногах, и вдруг враз подломились колени. Страшиться такой невеселой участи Периклу пока что не доводилось – Аспасия своими невообразимыми ласками наливала его силой так, что он чувствовал себя двадцатилетним юношей. И тогда склонен был думать, что Аспасия берет в первую очередь филигранным умением любить. А умению, как известно, учатся.
Но сейчас Аспасия увлеклась, глядишь, еще немножко, и весь нектар любви достанется ему одному; как справедливый человек, вернее – справедливый любовник, Перикл этого допустить не мог. Легкими целенаправленными прикосновениями он предложил ей встать на четвереньки. Сейчас, когда он заметно огрузнел, эта поза нравилась ему больше других – и удобна, и возникает странное ощущение, что он некто вроде кентавра. Наверное, потому, что они с Аспасией сливались, срастались, соединялись в одно нераздельное целое.
Аспасия откликнулась его желанию. Красота ее ягодиц привычно ослепила его. И лилейно-белой вспышкой в полутьме спальни – ночь за окном уже выдыхалась, и, конечно же, безупречной гармонией линий, будто позаимствованной у полной медового сока груши – единственного земного плода, который наверняка стоял перед глазами божественного демиурга, когда он сотворял женщину. А потом уже сами эллины придали пленительные очертания женской фигуры амфорам. Не оттого ли, что женщина, как и амфора, сосуд с хмельным, как вино, напитком?
В третий раз за ночь Перикл и Аспасия напоминали кентавра. Ритмика любви, казалось, не оставляла ни малейшего простора мысли. Это было не так. По крайней мере, Перикл умел совмещать то и другое. «Преимущество Аспасии в том, что, будучи моей женой, она продолжает оставаться моей любовницей, – думал сейчас он. – Обычно Гименей со временем остужает пыл тех, кого соединил своими узами. Но над этой милетянкой он не властен».
Перикл не торопился. Он хотел исподволь приблизить Аспасию к той точке, за которой наступает полное, блаженное изнеможение. Сладкая пустота, охватывающая тело и душу. Он умел это делать. Может, потому, что тоже обладал выучкой, совершенно противоположной той, которой располагала эта изумительная женщина; эта его выучка пришла не сама по себе, а благодаря постоянному самоконтролю – если во время публичных выступлений с его уст срывалось хоть одно необдуманное слово, он считал свою речь неудачной. Значит, именно в этот момент боги отворачивались от него, хотя он всегда просил, чтобы они охранили его от горячности, более приличествующей юноше, нежели зрелому государственному мужу. Без ложной скромности – первому среди равных вождю афинского демоса. Вождей или поводырей никогда не бывает много – впереди находится кто-то один. Периклу было неважно, к кому он обращает свое слово – к народному собранию-экклесии, которое всегда напоминало ему море – из спокойного и безмятежного оно вмиг могло стать злым и непокорным, «совету пятисот» или остальным девяти стратегам, главное – это слово должно быть взвешенным и точным, ибо лишь после него появляется золотое, поистине мудрое решение. А взывать к страстям, будоражить людей – все равно что бросать клок горящей пакли в выжженную летним зноем траву.
Перикл ускорил ритм, зная, что до последнего его проникновения, последнего толчка навстречу боящейся потерять его хоть на миг Аспасии еще далеко – дыхание ее тут же стало еще более прерывистым, ему даже иногда казалось, что она изредка всхлипывает.
Аспасия! Женщина – подарок богов! Или женщина, коей небожители искусили его в наказание? Как бы там ни было, Перикл рад, что она с ним. Он не отдаст ее никому и никогда, даже если народ Афин подвергнет его остракизму – сей участи он панически, никому, впрочем, не выказывая, боялся с самой ранней юности. Как ненавидел он свой навязчивый сон – груда глиняных черепков растет, увеличивается, кажется, до размеров пирамид, стоящих в далеком Айгюптосе [3], и на каждом, он различает это явственно, как рисунок на собственной ладони, нацарапано – «Перикл», «Перикл», «Перикл»… Тот небожитель на Олимпе, может быть, сам Зевс-Громовержец, ниспосылая ему этот проклятый, надсаживающий сердце сон, игрался с ним, будто кот с мышью, которая, однако, выскальзывает из острых когтей живой и невредимой – груда черепков с его именем в конце концов неизменно рассыпалась, и там, где она мгновение назад высилась, уже зеленела бархатная трава, которую Перикл безмятежно попирал босыми ступнями. Нет, все-таки боги Олимпа милостивы к нему!
Он вспомнил, как впервые оказался в доме Аспасии, имя которой уже было на устах у всех афинян – одни восторгались блестящей умницей-гетерой из Милета, другие злословили. Вообще-то, никакой охоты являться в жилище красивой молодой женщины, почему-то возомнившей, что ей под силу основать свою, новую школу риторики, он, самый уважаемый из афинских стратегов, не испытывал. Но как откажешь Сократу? Лицо Сократа, некрасивое, будто его грубо, наспех высек нерадивый, мало сведущий в законах гармонии скульптор, удивительно преображалось, когда он убеждал, что Перикл не потеряет зря времени, если познакомится с прекрасной милетянкой – Сократ, говоря это, хорошел прямо на глазах, его глубоко спрятанные, выцветше-голубые, как у старика, глаза наполнялись густой синевой весеннего аттического неба, рисунок толстых губ словно мягчел, сероватая кожа лица розовела, а ранние залысины еще больше подчеркивали благородство мощного выпуклого лба – единственного, на что не поскупилась природа.
– О, Сократ, мне кажется, ты просто-напросто влюблен в эту иностранку, о которой говорят, что она покушается на святая святых – моральные устои Афин, – смеялся Перикл.
– Я все же не понимаю, почему там, где постоянно бывают Анаксагор, Зенон, Протагор, Фидий, даже ярый женоненавистник Еврипид, считает для себя зазорным хотя бы разок появиться достойнейший Перикл? – горячился молодой философ.
– Ты забыл добавить – чаще других у Аспасии бывает некий Сократ, – опять рассмеялся Перикл.
– Если б от этого был хоть какой-то толк, – огорченно вздохнул Сократ. – Несравненная, блистательная женщина видит во мне лишь умного и приятного собеседника.
– А ты бы хотел – любовника? – насмешливо уточнил Перикл, и, взглянув на молодого философа, расхохотался – у того был такой вид, будто его заставили прикоснуться обеими лопатками к песку палестры. [4]
Чашу с вином Периклу поднесла, в знак особого уважения, сама хозяйка. Он сделал глоток, про себя отметив, что вино разбавлено в безукоризненной пропорции, потом пригубил из кубка еще и еще – было жарко, и ему хотелось пить. Ничто на земле, даже студеная ключевая вода, не утоляет жажду лучше, чем умело разбавленное вино.
Сократ, все-таки приведший его сюда, сидел на низкой скамье совсем неподалеку; наверное, пылкому и любознательному философу было интересно услышать, о чем будут говорить его кумиры.
– Насколько мне известно, ты приехала в Афины из Мегары? Или даже Коринфа? – Перикл внимательно посмотрел в темно-карие, почти черные, как дозрелые маслины, глаза Аспасии, невольно отмечая, насколько действительно красива эта не похожая ни на кого ни внешностью, ни умом, ни поведением женщина.
– Ты собираешь городские сплетни, Олимпиец? – неожиданно резко ответила она, вскинув темные брови, похожие на крылья летящей в отдалении птицы.
– Прости, но я не хотел тебя обидеть, – несколько смутился он, кого не страшил даже многоголосый ропот народного собрания. – Пожалуй, единственное, что мне доподлинно известно: ты – Аспасия, дочь Аксиоха из Милета.
– Да, вот это соответствует истине, – подтвердила она.
– Однако я хотел бы знать о тебе больше, – искренне произнес Перикл.
Он догадывался, как и чем задел Аспасию. Людская молва, у которой непонятно откуда растут ноги, утверждала, что эту гетеру еще девочкой похитили и переправили в Мегару – кое-кто называл не Мегару, а Коринф. Наверное, самый настоящий раб обладал большей свободой, чем она, свободнорожденная милетянка, которой, увы, суждена была участь женщины, насильственно погруженной в терпкий омут разврата. Ходил слух, что чрезвычайно способную жрицу любви заметил и оценил некий безвестный богатый афинянин – он заплатил выкуп и сделал Аспасию свободной. Так говорили одни. Другие ограничивались тем, что укладывали ее жизнеописание и дальнейшие устремления в тесное прокрустово ложе: знаменитая гетера из Милета, великолепно владея искусством обольщения, приехала покорять Афины. Что, насколько ведал Перикл, ей определенно удавалось: цвет города слетался сюда, как рой ночных мотыльков на огонь. Третьи же утверждали прямо, без обиняков: Аспасия прибыла в Афины для того лишь, чтобы в ее сетях оказался сам Перикл. Впрочем, это до его ушей не долетало.
– Я рада, что ты посетил мой дом. Не думала и не надеялась, что мне, простой смертной, окажет честь сам Олимпиец, – она произнесла это без всякой тени кокетства, так искренно, что у Перикла на мгновение перехватило сердце. Но он счел нужным возразить:
– Олимпийцы, прелестная Аспасия, недосягаемы. Они, как известно, обитают на той священной горе, куда, увы, не проникает взор ни одного из нас.
– Нет, Перикл, так называет тебя вся Эллада. И Милет – не исключение. Не скрою, я всегда мечтала хоть разок посмотреть на тебя краешком глаза. Согласись, когда мечта сбывается, человек, а особенно женщина, чувствует себя счастливым.
– Значит, сегодня ты счастлива?
– Вдвойне. Хотя, если честно, я вижу тебя не впервые.
– Но я ведь только сегодня переступил порог твоего дома, – удивился Перикл.
– Я высматривала тебя на афинских улицах. И каждый раз поражалась…
– Чему же? – поспешил прервать ее он.
– Твоей осанке. Походке. Так величаво ходят разве что небожители. Твое же умение носить одежду и вовсе неподражаемо. Складки просто безупречны. И еще я не могла не оценить, как первый стратег Афин, откликаясь на приветствие прохожих, поднимает во встречном жесте руку. Ты делаешь это так царственно, что ни одна складка на твоем одеянии не шелохнется. Иногда мне кажется, что на тебе не сотканное человеческими руками полотно, а белый струящийся мрамор, принявший свой окончательный вид под резцом великого Фидия.
– Ты льстишь мне, Аспасия. Я и не подозревал, что самые сладкоречивые женщины – родом из Милета.
Но гетера даже не улыбнулась. Она по-прежнему неотрывно смотрела на Перикла чуть увлажненными глазами – будто на спелые маслины капнул дождь, и на мгновение Периклу показалось, что эта чужеземка, кажется, в него влюблена. Да нет, не кажется. Она несомненно в него влюблена. Но что слова? Этими словами, которыми она обласкала его, Олимпийцу мог, без всякой натяжки, воздать хвалу любой расположенный к нему афинянин или даже много наслышанный о нем варвар. Весь скрытый смысл их недолгой беседы угадывался в том, как она их произносила – будто объяснялась в любви! Он впервые посмотрел на Аспасию откровенно мужским взглядом – под тончайшей шелковой тканью отчетливо вырисовывались безупречные линии и формы. Нутром Перикл почувствовал, что Аспасии его взгляд понравился – иногда ради этого женщины и предпринимают всяческие усилия, лезут из кожи вон, часто не прощая мужчинам равнодушия или пренебрежения. Такой взгляд хотят поймать даже старые шлюхи, надеющиеся, что при свете ночных фонарей их лица с зашпаклеванными рыбьим клеем морщинами будут казаться молодыми и привлекательными, а сокрытые одеждой одряхлевшие тела зажгут в мужчинах огонь желания, если же выразиться поточнее – разбудят похоть.
«Эта женщина меня влечет», – подумал Перикл, чувствуя, как под сердцем рождается холодок – будто перед чем-то сладким и неизведанным. Однако тут же отвел глаза от ее стана – продолжать разглядывать Аспасию с такой откровенностью становилось уже неприличным. Встретясь с ней глазами, он понял – Аспасия ясно прочитала, что сейчас у него в душе и голове.
– Ты чересчур возносишь меня, прекрасная дочь Аксиоха. Я, право, этого не заслуживаю, – повторил Перикл.
– Твоя скромность известна всем афинянам, даже последнему «телу» [5]. Нет, Перикл, ты действительно Олимпиец. Народ любит тебя.
– О, боги! На свете нет ничего более переменчивого, чем любовь народа. Она похожа на морскую стихию, которая еще час назад ласково покачивала тебя на волнах, а теперь норовит швырнуть на острые прибрежные камни. Сегодня ты в великих Афинах, где тебя славят и видят в тебе, если верить твоим, Аспасия, словам, чуть ли не божество, а завтра можешь отправиться на неприветливую чужбину опять же по воле народа, – на мгновение дала о себе знать застарелая фобия.
– Нет, несравненный Перикл, тебе это не угрожает.
– Что ж, со временем смогу убедиться, какая из тебя Кассандра, – засмеялся Перикл.
Они, конечно, были не одни на этом вечере у Аспасии. Тесным кольцом жаждущих услышать смелые философские откровения окружен вольнодумец Анаксагор, давно уже прозванный эллинами «Разумом» – он и сейчас возводил стройное здание своих блистательных умопостроений. До Перикла долетело:
– Все, исключительно все в мире образовалось из первовещества, в основе которого, в свою очередь, первочастица – она составляет основу и звезд, и моря, и земли. Фалес, кстати, называет праэлементом, на коем зиждется земля, воду.
Три гетеры из Коринфа – этого сладкого гнезда немыслимой распущенности и разврата, одна из которых что-то тихонько наигрывала на кифаре, еле слышно прикасаясь плектрами [6] к ее струнам, пытались развеселить угрюмого Еврипида – о чем, интересно, он сейчас думает? Не о том ли, что его в очередной раз обставил Софокл, чья трагедия опять была признана лучшей на состязаниях драматургов? Софокла, кстати, сегодня нет. Перикл всегда питал к нему особую симпатию. Потому, верно, что знаменитый поэт тоже обладал олимпийским спокойствием, он, кажется, останется невозмутимым, даже если горы, окружающие Афины, вдруг обрушатся, а морская вода перехлестнет через «Длинные стены». Одиноко, с чашей вина в руке сидел рано облысевший Фидий; больше, чем красоту слова, он ценил красоту и гармоничную соразмерность человеческого тела.
Перикл подумал, что их уединенная беседа с Аспасией осталась незамеченной. Но он ошибался. За ними все время тайно наблюдал Сократ, и некрасивое лицо его с коротким, но мясистым, странно и смешно вздернутым кверху носом с непомерно большими ноздрями, было радостно-грустноватым. Но вот он поднялся и направился к ним. Перикл, во всем любивший ясность, задал гетере последний вопрос:
– Когда же ты родилась, несравненная Аспасия?
– В семьдесят шестую Олимпиаду [7], достойнейший из афинян.
Сократ хотел что-то сказать, но Перикл, улыбнувшись напоследок собеседнице, увлек его в сторону…
… Аспасия громко, чуть ли не навзрыд заплакала, и это означало, что и она, и, конечно же, Перикл достигли апогея телесной любви. Оба замерли на несколько мгновений, а потом «кентавр» распался на два отдельных существа – счастливых и обессиленных. Аспасия благодарно поцеловала руку Перикла и тотчас уснула. Он же, убедившись, что ее сон крепок, неслышно поднялся и, надев короткий домашний хитон, вышел из гинекея. Большой дом еще был объят сладким предутренним сном. В покоях было душновато, и Периклу захотелось на свежий воздух. Какими бы осторожными ни были его шаги, один человек, чей чрезвычайно чуткий сон всегда удивлял Перикла, все же их услышал. В проеме дальней двери появился Евангел, старший раб, управляющий хозяйством стратега. Вся его фигура изображала немой вопрос – не нужен ли он хозяину? Однако тот успокоительным жестом отослал Евангела восвояси.
Перикл вышел в перистиль [8]. Мраморные колонны уже наливались природной белизной в истаивающих утренних сумерках. Слегка прислонясь к одной из них, изрядно нахолодавшей за ночь, Перикл устремил взор на темнеющий зев жертвенника в честь богов Олимпа, от которого его отделяло расстояние не более плетра [9]. Подумал: «Надо будет сегодня принести просительную жертву златотронной дочери Зевса Афродите и совершить возлияние. Пусть и дальше покровительствует мне Пеннорожденная».
Край неба тем временем располосовали темно-желтые ручьи орихалка [10], будто бы только-только выпущенного из плавильной печи. Еще немного, и там же брызнуло, растеклось розовое золото, то самое, которое, говорят, можно встретить лишь в заморском Айгюптосе, где молчаливо стоят странные и загадочные пирамиды.
Что-то шевельнулось в душе Перикла, настроение вдруг испортилось, как если бы он спозаранку, по самом пробуждении вспомнил о чем-то неприятном. Полузакрытые веки дрогнули – ах, да! Ночь, прошедшая в объятиях неистовой Аспасии, начисто заставила позабыть, что сегодня ему предстоит нелегкий день.
Золото! Не небесное, а вполне земное золото! Фидия, коим могут гордиться не только Афины, но и вся Эллада, Фидия – лучшего друга и единомышленника Перикла, враги и завистники обвиняют в том, что тот якобы присвоил часть драгоценного металла, из которого изготовлена статуя Девы Афины в Парфеноне на Акрополе. Обвинение чрезвычайно серьезное, но буквально высосанное из пальца – Фидий сколь талантлив, столь же и бескорыстен. Что ж, он, Перикл, легко опровергнет это обвинение, которое зиждется на песке, хотя очень часто бывает и так, что чистейшей воды клевета берет верх. Нет, завтра, а вернее, уже сегодня он не будет изощряться в красноречии, не воспользуется своим даром убеждения, от которого ему самому иногда становилось не по себе. Впрочем, лучше всех об этом сказал прославленный борец и ярый враг Перикла, аристократ Фукидид, у которого царь Спарты однажды спросил: «Кто сильнее – ты или Перикл?» Тот честно признался: «Если даже я положу Перикла на обе лопатки, то и тогда он докажет, что побежден я, и народ ему поверит!»
Перикл даже повеселел: итак, сегодня сила красноречия уступит место силе факта. Тогда он посмотрит на посрамленные физиономии лжецов и завистников – по-лошадиному вытянутые, даже длиннее, чем у лошадей.
Но надо немножко поспать – нет хуже, когда голова несвежа.
ГЛАВА II
«Друг моего врага – мой враг» – истина, проверенная временем, и абсолютно верная. Можно сделать этого друга своим другом, и тогда он станет врагом врага, но это задача потруднее, чем какая другая, ставить ее по отношению к Фидию совершенно немыслимо, в этом человеке Перикл уверен больше, чем в самом себе. Но можно очень сильно уязвить врага, от души поглумясь над его другом, – это тоже дает немалый эффект. Стрела ненависти, направленная в Фидия, на самом деле ищет другую цель – его покровителя и единомышленника, вождя демократической партии, стратега Афин Перикла. Аристократы все никак не угомонятся, считают, что Перикл попустительствует демосу, чересчур рьяно заботится о правах простых граждан, не блещущих ни знатностью происхождения, ни богатством. С аристократами очень легко находит общий язык Спарта, ревниво следящая за небывалым взлетом Афин, могущество которых постоянно мозолит ей глаза. Плохо, очень плохо, что эллинский мир разобщен: он сжимается в непобедимый кулак лишь тогда, когда над Элладой нависает зловещая тень внешнего врага – вспомнить хотя бы три нашествия персов.
Так думал Перикл, поднимаясь по достаточно крутой дороге вверх к Акрополю. Гермы, стоящие обочь пути на равном расстоянии друг от друга, еще не успели запылиться, и Периклу показалось, что эти грубые изваяния Гермеса, периодически взирающие на него с каждого столба, полны некоторого сочувствия – ведь стратег торопится не на радостный пир по случаю очередной победы над противниками Афин или очередное всенародное торжество.
Нынче вовсю властвовал месяц элафеболион [11], и растительность, щедро напоенная осенними и зимними дождями, отзывалась теплому солнцу мощным зеленым выбросом. Перикл внезапно остановился, постоял несколько мгновений и вдруг решительно, вызывая удивление прохожих, свернул на луговину. Кое-где трава была ему по щиколотку, а иногда – и по колено. Осторожно (а со стороны это выглядело величаво), чтобы складки белого тонкотканного гиматия не сдвинулись ни на йоту, нагнулся и сорвал несколько ворсистых стебельков белых, как гиперборейский снег, анемонов, радуясь им так, как, верно, радуется бедняк, подобрав в пыли агоры [12] оброненную кем-то золотую декадрахму. «Мало бываю на природе, – отметил про себя Перикл, – надо выбрать какой-нибудь из ближайших дней и отправиться с Аспасией в лес, где ни души». Он представил, как они будут разжевывать твердый овечий сыр, запивая его глотком хиосского вина, разбавленного водой из ручья, как поочередно будут кормить друг друга солеными оливками, и улыбнулся. От того, что он помечтал о совершенно маленькой житейской радости, его настроение заметно улучшилось. Перикл поднял глаза вверх. Высоко в небе, прямо над ним парила Зевсова птица – необыкновенно могучий, с громадным размахом крыльев орел. «Владыка Олимпа подает мне добрый знак», – уверился Перикл, и на душе у него стало вовсе покойно. Все, когда он поднимался и входил в Акрополь, отмечали, что у Олимпийца приподнятое настроение.
У Парфенона его уже ожидали и друзья, и враги. А также те, кому предстояло вынести вердикт – оправдать скульптора еще на стадии следствия или отдать под суд.
Фидий стоял со скрещенными на груди руками и был заметно бледен от скрываемого волнения – что приятного, если тебя подозревают в корыстолюбии и нечестности? Пусть ты трижды невиновен, все равно на задворках сознания таится боязнь – а как оно все обернется?
«Как бы порадовался Фукидид, мой заклятый друг, будь он сейчас здесь, – подумал Перикл, отмечая про себя, как много на сегодняшнее разбирательство явилось аристократов и их сторонников. – Для Фукидида свет клином сошелся на Спарте. Но даже то, что он сын знатного Мелесия, зять самого Кимона [13], не спасло его от изгнания. Фукидид далеко, но тень его незримо витает здесь. Он и его свора кричали на всех перекрестках: «Перикл пускает деньги на ветер, делая из Акрополя красивую игрушку! Перикл и его приспешники транжирят Делосскую казну, общегреческую, между прочим, казну, направо и налево, даже не догадываясь, что этим деньгам можно найти более достойное применение! Золото, предназначенное для войны, идет на статуи и рельефы». Да, Фукидид из Алопеки далеко, но почему-то кажется, что он никуда из Афин и не уезжал. О, узколобые! Вместо того, чтобы подкупать народ щедрыми подарками, не лучше ли позаботиться, чтобы руки каждого афинянина не оставались в вынужденном бездействии. Акрополь, какой он сейчас есть, составит вечную славу Афин. А те, кто его сейчас возводят и украшают, зарабатывают себе на пропитание, а не нищенствуют. Что хорошего, если у отца семейства за душой нет ни обола? [14]Да, вот уже несколько десятилетий Афины могущественны как никогда, и те города, которые просят у них защиты и покровительства, платят за это. В наибольшей целости и сохранности общегреческая казна именно здесь, в Афинах, а не на острове Делос. Слабый всегда в некоторой зависимости от сильного, это так. Но кто может сказать, что Афины хоть раз не защитили кого-либо из своих союзников? А деньги, отданные за защиту и покровительство, принадлежат тому, кому они заплачены. И никто не вправе афинянам указывать, как они их расходуют. Что ж, подумал Перикл, раньше враги, брызгая слюной, кричали, что мы не так тратим деньги. Теперь обвинение похлеще – близкие ко мне, Периклу, люди обогащаются за счет государства…