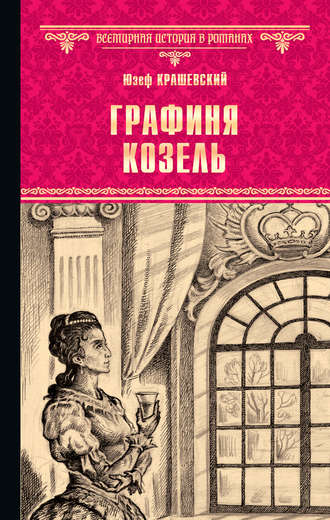
Полная версия
Графиня Козель
Гойм пожал плечами и тревожно взглянул на короля, но король спокойно проговорил:
– Правда прежде всего… Что же тут стесняться?.. Гм! Так взаправду твоя жена, Гойм, может быть красивее Любомирской?
– Ваше величество, – с увлечением отвечал Гойм, – княгиня Любомирская красивая женщина, а моя жена – богиня. При дворе, во всем городе, во всей Саксонии, в целой Европе – нет ей не только равной, но даже подобной!
В ответ на эти слова министра акцизов зал взорвался смехом.
– Какой забавный Гойм, когда пьян!
– Потеха просто, как выпьет акцизник!
– Что за человек!
Один король не смеялся, а сам Гойм был, очевидно, под влиянием амброзии и даже, казалось, забыл, где он находится и с кем говорит.
– Ладно! – воскликнул он. – Смейтесь себе, смейтесь! Вы меня знаете, вы сами зовете меня Дон Жуаном; так, по крайней мере, согласитесь, что лучше меня нет знатока в женской красоте. Да и к чему мне лгать?.. Моя жена – божество, а не женщина; одного взора ее достаточно, чтобы раздуть пламя любви в самом холодном сердце; ее улыбка…
При этих словах он нечаянно взглянул на короля…
Выражение лица Августа, жадно слушавшего каждое слово, так поразило пьяного министра, что он сразу почти протрезвел. Он был бы рад взять назад свои слова. Гойм вдруг замолчал и побледнел как полотно. Напрасно все старались вызывающим смехом подзадорить его, чтобы он продолжал свое описание. Гойм растерялся, рука его машинально держала бокал, но он опустил глаза и задумался.
По знаку короля Киан налил Гойму вина и чокнулся.
– Пили мы за здоровье нашего Геркулеса, – закричал Фюрстенберг, – теперь выпьем еще за здоровье божественного Аполлона!
Некоторые пили, опустившись на колена, другие стоя; Гойм встал, шатаясь, и должен был опереться на стол. Действие вина, на минуту остановившееся под влиянием испуга, снова началось. Голова министра страшно кружилась, и он выпил вино залпом.
За креслом короля стоял Фюрстенберг, которого государь называл часто в шутку Фюрстхен. Он был всегдашний помощник и товарищ Августа в его любовных похождениях, и теперь король тихо ему прошептал:
– Фюрстхен, а акцизник-то ведь, должно быть, не лжет; он несколько лет запирает и прячет свое сокровище; его надо бы заставить показать нам свою красавицу… Делай все, что хочешь, чего бы это ни стоило, а я хочу ее видеть!
Фюрстенберг улыбнулся: ему и многим было это очень с руки. Царствовавшая ныне королевская любовница княгиня Тешен-Любомирская восстановила против себя всех друзей попавшего из-за нее в опалу государственного канцлера Бейхлингена, после падения которого она присвоила себе дворец на Пирнейской улице… И хотя Фюрстенберг в свое время послужил и Любомирской против других прелестниц, старавшихся завладеть сердцем короля, но королю своему он был готов служить против всех на свете. Теряющая свою красоту Любомирская, ее претензионный тон и обращение начали надоедать королю. Фюрстенберг отгадал все это во взгляде и в разговоре короля и, отойдя от его кресла, подошел к Гойму, фамильярно облокотился на его плечо и громко прокричал ему на ухо:
– Милейший министр! Стыдно мне за тебя, срам так нагло лгать в присутствии светлейшей особы короля! Ты смеялся и над ним и над нами. Я охотно допускаю, что жена такого знатока и любителя красоты, как ты, не может быть какой-нибудь мартышкой, но чтобы равнять ее с богиней Венерой или даже с княгиней Тешен – это дудки!
Вино снова зашумело в голове Гойма.
– Что я говорил, – гневно отвечал он, – все правда! Тысячу громов! Гром и молния!
– А я бьюсь на тысячу дукатов, – вскричал Фюрстенберг, – что твоя жена не красивее других придворных дам!
– Принимаю пари! – сквозь зубы пробормотал совершенно бледный и пьяный Гойм. – Держу!..
– А судьей буду я! – протянув руку, прибавил Август. – И так как суду медлить не для чего, – продолжал он, – то Гойм немедленно привезет жену сюда и представит ее нам на первом же балу у королевы.
– Превосходно! Пиши, Гойм, скорее своей прекрасной жене, а королевский курьер сейчас отвезет это письмо в Лаубегаст! – закричал кто-то из толпы.
– Да, да! Пиши сейчас же! – послышались голоса со всех сторон.
В одну минуту перед министром лежал лист бумаги, Фюрстенберг насильно всунул ему в руку перо, а король взором требовал исполнения. Несчастный Гойм, в котором время от времени пробуждалась тревога мужа при мысли о волокитстве короля, сам не зная как, написал продиктованное ему письмо к жене с приказанием приехать в Дрезден. Письмо это взяли у него из рук… и уже по лестнице послышались шаги: это кто-то бежал вниз, чтобы немедленно отправить курьера в Лаубегаст.
– Фюрстенберг, – шепнул Август, – если Гойм сегодня протрезвеет, он вернет курьера… Позаботься напоить его до бесчувствия, чтобы он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой…
– О, не беспокойтесь, ваше величество: он и так пьян, что я начинаю опасаться за его жизнь!
– Ну, на этот счет я совершенно спокоен, – отвечал король, – мы бы ему устроили отличные похороны, а на земле его службу отправил бы без упущений кто-нибудь другой.
Шутка короля так подействовала, что вокруг Гойма вмиг уже стояла целая батарея рюмок и стаканов; стали придумывать тосты; все его подбивали выпить еще, да еще… в амброзию ему подливали разные другие напитки, и через полчаса Гойм, бледнее мертвеца, со свесившейся головой и страшно разинутым ртом, храпел, полулежа на столе.
Гайдуки подняли его и понесли на кровать, более из осторожности, чем из заботы о его здоровье.
Его положили в один из королевских кабинетов и оставили там на попечении силача Цоянуса, которому было велено никуда не выпускать его, ни под каким предлогом. Гойм, впрочем, не проснулся, и тяжело стеная во сне, пролежал без сознания до самого утра.
Когда его вынесли из залы, там началась при закрытых дверях, в самом тесном кружке, страшная оргия, единственными свидетелями которой были молчаливые зеркала, украшавшие место этой вакханалии.
Король пришел в самое веселое расположение духа, которое тотчас же отразилось на лицах всех его собеседников. Уж почти совсем рассвело, когда два гайдука отнесли наконец в постель последнего из всех пировавших, – это был сам Август.
Фюрстенберг остался один на месте бурной попойки, и он был почти совершенно трезв. Проводив вынесенного в бесчувствии короля, он снял с себя парик, чтобы освежить голову, и, задумавшись, проговорил самому себе:
– Наступает новое царствование… Любомирская слишком мешалась в политику. Она могла завладеть королем… На что ему умная любовница? Лишь бы любила да тешила его! Вот все, что нужно и в чем состоит призвание фаворитки венценосца!.. Теперь посмотрим жену Гойма, так усердно расхваленную своим мужем!..
II
Лаубегаст, где в одиночестве обитала супруга Гойма, лежит на самом берегу Эльбы, часах в двух ходьбы от Дрездена. В этой деревеньке было несколько загородных домиков, принадлежащих самым знатным и богатым лицам всего околотка. Эти домики прятались в густом лесу лип, буков и черных елей и сосен.
Дача Гойма, куда он частенько приезжал украдкой из своего городского дома, чтобы пробыть тут вечер и часть дня, а в отсутствие короля и целые недели, была, как и все строения того века, построена на французский манер, с разными резными и лепными украшениями по стенам и с высокой черепичной крышей. Ее отделывали самым старательным образом нарочно привозимые сюда из столицы мастера.
Хозяин очень заботился об украшении этого жилища. Небольшой дворик был огорожен железной решеткой на каменных столбах, на которых стояли превосходные каменные вазы, а на более высоких столбах около ворот помещались группы купидонов с фонарями в руках. Вход в дом был по каменной галерее, опять украшенной вазами, статуями и роскошными цветами. Дом был барский, но казался пустынным и грустным и походил на монастырь.
Здесь не было ни шума, ни многочисленной прислуги. Изредка около дачи показывались два старых камердинера и несколько человек прислуги, а под вечер выходила иногда с книжкой в руках женщина, которой с удивлением и восхищением любовалось все население Лаубегаста. В самом деле, это было какое-то чудное явление в этом глухом захолустье, потому что единственно достойным ее местом жительства могла быть столица.
Никто никогда не видел в этой деревне ничего подобного и не мог даже представить себе такой красоты. Это была молодая женщина высокого роста и царственной осанки, великолепного цвета лица, с черными живыми, ясными глазами. Когда она шла по улице во всем величии своей красоты и молодости, невольная тревога овладевала всяким, кто на нее даже украдкой взглядывал, столько было в ней повелительного и истинно царственного.
Но несмотря на величественность, в лице ее было что-то грустное, унылое. Никогда не улыбались уста, никогда не светилось в глазах что-нибудь веселое, беззаботное. Она казалась несчастной, а может быть, просто скучала. Известно было, что она жила здесь взаперти и в одиночестве уже несколько лет, не видя никого, кроме сестры Гойма, Фицтумовой жены, но и эту брат нечасто допускал к своей жене. Он знал, что сестра его некогда тоже имела счастье удостоиться кратковременных ласк короля и питала надежду когда-нибудь снова вернуть себе утраченное мимолетное счастье.
Не допуская жену ко двору и стараясь удалить ее от всех придворных соблазнов и интриг, министр даже и родную сестру старался от нее отстранить. Госпожа Фицтум понимала это, но ничего не говорила, – ей это было все равно.
Но невестка ее смертельно скучала. Единственным развлечением красавицы были духовные протестантские книги, которыми она часто зачитывалась, да еще прогулки, происходившие, однако, не иначе как под надзором старика-камердинера.
Тщательно оберегаемая жизнь текла однообразно и тихо, и никакие страстные порывы не нарушали спокойствия. Гойм, впечатлительный и страстный, но непостоянный и ветреный, увлекаясь придворной жизнью, скоро забыл и почти бросил свою жену. Однако, он любил ее по-своему, то есть ревновал и прятал свое сокровище.
Только тогда, когда короля и двора не бывало в Дрездене, графине Гойм позволялось приезжать на короткое время в столицу, но столица в это время была так смертельно скучна, что не могла привлечь к себе молодую женщину.
Многолетнее заключение сделало ее мрачной, желчной, грустной и гордой. В ней развился какой-то странный аскетизм и апатия. Она считала свою жизнь погибшей, отпетой и похороненной. Впереди она видела только одну смерть, а между тем она была хороша, ей еще не было двадцати четырех лет, да и то все видевшие ее не давали ей больше восемнадцати, до такой степени она была моложава.
Эта моложавость невестки приводила в негодование госпожу Фицтум, молодость и свежесть которой сильно пострадали от веселой и разгульной придворной жизни. Ее раздражало и другое в молодой Гойм – ее грусть, ее негодование на все порочное, ее гордость, презрение к интригам и лживости, ее царственное достоинство, с которым она с высоты своего величия глядела на подвижную, веселую и полную фальши и обмана золовку. Не будь госпожа Фицтум родственницей госпоже Гойм, она, может быть, даже постаралась бы довести ее до падения.
Жена Гойма тоже не любила госпожу Фицтум, она чувствовала к ней инстинктивное отвращение. К мужу она относилась холодно, даже почти с презрением, может быть, отчасти за эту самую Фицтум, которая любила потихоньку посплетничать о разных скандальных интрижках; через нее Анна Гойм знала, что муж не был ей верен.
Легко могла она повергнуть его к своим стопам одним нежным взглядом; она знала свою силу и была в ней уверена, но не хотела. Он казался ей слишком ничтожным, чтобы стоило о нем заботиться. Встречала она его холодно, провожала так же. Гойм возмущался, сердился, но когда дело доходило до открытой ссоры с женой, он постыдно сбегал.
Так шли день за днем в Лаубегасте. Анне уже не раз приходила на ум мысль оставить мужа и «соломенной вдовой» возвратиться на родину в Голштинию…
Но отца и матери она лишилась в детстве, а княгиня Брауншвейгская из рода Голштейн-Плен, пожалуй, и не приняла бы ее снова к своему двору. Слишком памятно и известно было пребывание там шестнадцатилетней Анны, которую князь Людовик Рудольф в пылу увлечения ее чудной красотой хотел поцеловать и получил почти публично пощечину.
Некуда было деваться бедной, но прекрасной Анне.
О ней никто не знал в Дрездене, никто не знал при дворе – за исключением одного человека.
Это был молодой поляк, который скорее силой, чем охотой, состоял при дворе Августа: он попал сюда против воли и против воли влачил тут противное его нраву существование.
Когда Август Сильный ехал в первый раз в Польшу и, разговаривая с гордыми панами, выехавшими ему навстречу, стал за обедом в Пекарах крушить в руках серебряные стаканы, гнуть талеры и ломать подковы, епископ Куявский при виде этих подвигов, предчувствуя почему-то зловещую будущность Речи Посполитой, будто невзначай, заметил, что ему известен один молодой человек, который может сделать почти то же самое.
Это за живое задело короля, который любил кичиться своей силой: он покраснел от неудовольствия, но, не желая этого выказывать, так как это было на первых порах его пребывания в Польше, удержался и выразил желание видеть такого соперника по силе, так как еще никогда в жизни не встречал себе равного. Епископ обещал королю представить ему в Кракове после коронации этого бедного молодого человека, происходящего, однако, из знатного и некогда очень богатого рода Закликов.
После епископ понял всю неловкость своей выходки и охотно бы ее забыл, если бы сам король не стал упорно настаивать и требовать, чтобы ему показали Раймонда Заклика.
Раймонд в то время только окончил иезуитскую школу и сам не знал, что с собой делать и куда деваться. Рад был бы он поступить на военную службу, но чин купить было не на что, а идти рядовым – не подобало дворянину.
После долгих розысков Заклика нашли наконец в какой-то канцелярии.
У него не оказалось ни порядочного платья, ни сабли, ни пояса. Волей-неволей епископу пришлось снарядить его на свой счет с ног до головы, чтобы самому не осрамиться, и он стал ждать случая показать его Августу.
Чаще всего король любил померяться силой после хорошего обеда, когда бывал особенно в духе. В один из таких дней, принявшись ломать серебряные жбаны и подковы, которые заранее обыкновенно припасались придворными, король вдруг обратился к спокойно сидящему в стороне епископу и снова спросил: «А где же, мой отец, ваш силач?» Когда король стал настаивать, привели Заклика.
Это был рослый, румяный, смирный и здоровый молодец, на вид скромнее красной девицы и совсем не казался Геркулесом. Взглянув на него, Август усмехнулся. Заклик был дворянин, и он получил разрешение поцеловать руку государя. По-французски и по-немецки он не знал в то время еще ни слова, и потому с ним иначе как по-латыни говорить было трудно. К счастью, особенного разговора тут и не требовалось. Перед королем стояли два ровных серебряных бокала; Август взял один, сжал пальцы, и серебро смялось, как бумага, а вино брызнуло из бокала вверх.
Насмешливо улыбаясь, подвинул он другой бокал Заклику и сказал:
– Попробуй, если погнешь бокал, он твой.
Робко подошел юноша к столу, протянул руку и, почувствовав в ней металлическую вещь, оробел: ему казалось, что он ее не осилит…
Кровь бросилась ему в лицо – и бокал разломился на несколько кусочков. На лице короля изобразилось сначала недоумение, но оно быстро перешло в неудовольствие, которое было заметно во взгляде, брошенном на епископа.
Присутствующие поняли неловкость и спешили доказывать, что бокал, сломанный Закликом, вероятно, был или тоньше первого, или просто надломлен раньше.
Король стал ломать подковы, как баранки, Заклик делал то же самое без малейшего усилия.
Тогда Август взял немецкий талер и сломал его между ладонями. Заклику подали талер испанский, который был значительно толще немецкого, но дворянин принатужился и переломил монету.
По лицу короля пробежала туча, и весь двор был недоволен, что дело дошло до такого неблагоприятного исхода. Август велел наградить Заклика, подарил ему оба бокала, а затем, подумав, приказал зачислить его ко двору. Ему дали какую-то маленькую должность, а на другой день шепнули, чтобы он, боже сохрани, никогда не хвастался своей силой. Неприлично быть сильнее короля.
Бедняк Заклик попал таким образом ко двору.
Ему дали несколько сот талеров содержания без всякой работы – по тому времени это было очень роскошно. У Заклика было много свободы и одна лишь обязанность – ездить безотлучно за королем в его путешествиях. Король никогда не говорил с ним ни слова, но о нем помнил, часто наведывался и приказывал, чтобы он ни в чем не нуждался.
Свободного времени у Заклика было с избытком, и так как среди немецкого общества он ни слова ни с кем не мог сказать, то принялся на досуге учить немецкий и французский. Дело пошло успешно, и через два года он уже довольно свободно объяснялся на обоих языках. От скуки он часто бродил по окрестностям Дрездена, и не было деревеньки или рощицы, в которой бы он не побывал. Любопытный от природы, лазил он часто по самым неприступным горам и по обрывистым берегам Эльбы, взбирался чуть не с опасностью для жизни на такие высоты, что просто дух захватывало…
В одну из таких экскурсий Раймонд Заклик попал, на свое несчастье, в Лаубегаст и в тени под липой расположился отдохнуть… В это время графиня Анна Гойм вышла на свою одинокую прогулку. Заклик увидел ее и остолбенел от восторга и восхищения. Не верилось, что такое создание может действительно существовать. Долго просидел тут бедняк и все глядел, глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что вот, наконец, и надоест смотреть, но чем больше смотрел, тем все больше хотелось ее видеть. Грустно, скучно стало на душе, и, как околдованный, стал он бегать каждый день в Лаубегаст, совершенно потеряв голову.
Никому он не доверил своей тайны, да и посоветоваться ему было не с кем; некому было сказать, что от этой болезни одно лишь лекарство: не в огонь бросаться, а от огня бежать без оглядки… Юноша затосковал, исхудал, побледнел и даже как будто поглупел.
Служившие у графини Гойм женщины нередко поднимали его на смех, догадываясь, что с ним делается; рассказали они о юноше и своей госпоже. Та рассмеялась и захотела на него посмотреть. Может быть, ей стало его жаль, но она приказала позвать его к себе, пожурила за его постоянные и назойливые прогулки и строго велела больше не появляться в Лаубегасте.
При разговоре этом никто не присутствовал, и Раймонд вдруг набрался смелости. Он ответил, что в том, что он смотрит, нет греха; что ничего больше ему не нужно, лишь бы ее видеть, и прибавил, что, хотя бы его тут казнили, он будет сюда приходить.
Графиня Анна сердито топнула ножкой и обещала пожаловаться мужу, но Раймонда это не испугало. Графиня перестала ходить в ту рощу, где ее поджидал Заклик, и начала гулять вдоль Эльбы.
Однажды графиня заметила, что недалеко от берега над поверхностью воды виднеется человеческая голова. Она всмотрелась – по горло в воде стоял Заклик.
Страшно разгневавшись, Анна стала звать своих людей, но Раймонд нырнул и исчез. Он едва не утонул, потому что запутался в водорослях, а намокшая одежда тянула ко дну.
С этого времени Заклик как будто скрылся, на самом же деле он отыскал другую засаду и все глаза просмотрел, глядя целые дни на недоступную красавицу…
Знала об этом Анна или нет, но только в Лаубегасте о Заклике уже больше не говорили.
При дворе им тоже не интересовались: король, может быть, даже был бы и очень доволен, если бы он себе свернул где-нибудь шею.
К королю только раз призвали Заклика: это было, когда Август, будучи сильно разгневан, одним взмахом сабли отрубил голову громадному коню. Мощный владыка хотел доказать, что это подвиг, которого ни за что не сделает славный Заклик. Привели старую, костлявую солдатскую клячу. Заклику посоветовали, чтобы он, если дороги ему свобода и королевская милость, слукавил и не обнаруживал своей силы; но простодушный парень подумал, что если дело идет о том, чтобы померяться силой, то надо не ударить лицом в грязь.
В присутствии короля, всей знати и двора он выбрал добрый палаш и, как бритвой, отхватил голову кляче.
Потом он сам говорил, что рука с неделю болела, да ничего, зажила.
Король не сказал ни слова, только плечами пожал. На Заклика никто и смотреть не хотел, а те из придворных, которые с ним были поближе, советовали ему убираться из Дрездена, пока цел, и предсказывали, что при малейшем удобном случае не миновать ему Кенигштейна.
Раймонд не хотел об этом и слушать.
А король в это время о нем не забывал и вдруг захотел испробовать, сколько Заклик может выпить вина, но Заклик пил лишь воду и изредка только стакан пива или рюмку вина – и больше не мог.
Насильно влили ему в горло стакан венгерского; он тут же свалился с ног, неделю пролежал больной и чуть не схватил горячку. Но придя в себя и выздоровев, он, казалось, стал еще сильнее, снова начал ходить в Лаубегаст, высматривать свою красавицу.
Эта любовь сделала Заклика другим человеком. Он стал серьезнее, принялся за науки, и даже наружность его изменилась.
Графиня Анна, не имевшая тайн от мужа и от его сестры, о Заклике им ни разу не рассказала. Казалось, не видя и не встречая его больше, она и сама о нем забыла.
День в Лаубегасте кончался очень рано: чуть темнело, уж запирали ворота и двери на ключи и на засовы, собак спускали с цепей на двор, слуги ложились все спать, а сама хозяйка если и засиживалась иногда при свечах, коротая скучное время за книжкой, то об этом никто не знал.
В ту самую ночь, когда пировали в замке, по полям бушевал такой страшный осенний ветер, так страшно ломал и крушил ветви и целые деревья, что в Лаубегасте никто и не думал о сне.
Анна разделась и, лежа в постели, читала Библию, в которой любимыми были Апокалипсис и послания апостола Павла… Много она размышляла и нередко плакала над этим благочестивым чтением.
Была поздняя ночь, и в комнате уже догорала вторая восковая свеча, когда около дома послышался страшный стук, потом кто-то стал ломиться в железные ворота. Спущенные цепные собаки начали так ожесточенно метаться и громко лаять, что хозяйка почувствовала тревогу.
Анна начала звонить и подняла на ноги всю дворню; стук у ворот и собачий лай не прекращались.
Люди вышли на всякий случай с оружием.
За воротами шумел и кричал королевский курьер, рядом стояла запряженная шестериком карета с придворными ливрейными лакеями. Собак тотчас посадили на цепь, отворили ворота и приняли от курьера письмо графа.
Когда Анне подали письмо, она подумала, что случилось недоброе… Она побледнела, но, узнав почерк мужа, хотя немного дрожащий и неровный, стала спокойнее. В уме мелькнула судьба канцлера Бейхлинга, который в одну ночь лишился всего, что имел, и из королевских любимцев попал в кенигштейнские узники. Гойм тоже не раз говорил ей наедине, что не будет считать себя в безопасности, пока не переберется за границу со всем имуществом.
Всем было известно, что расположенность Августа не надежна, что чем добрее был король, тем более нужно было его опасаться. И Анна беспокоилась за мужа, потому что все государство ненавидело его за введение акцизных сборов, повсюду у него были враги и недоброжелатели.
Прочитав письмо, она немедленно велела готовиться к отъезду, и не прошло и часа, как ворота тихого домика захлопнулись за каретой, которая навсегда увозила его хозяйку…
Странные мысли приходили Анне на ум, овладевал какой-то страх и тоска…
Все знали уже о возвращении короля после долговременной отлучки. С ним возвращались в Дрезден интриги, козни, происки, при которых все средства становятся хороши и позволительны. Там часто происходили вещи, на первый взгляд пустые и веселые, а на самом деле трагические.
В то же самое время, когда злополучные жертвы томились в темных казематах или гибли на плахе, бальная музыка возвещала торжество победителей… Не раз Анна издали глядела на синеющую кенигштейнскую скалу, где погребено заживо столько тайн и столько живых мертвецов…
Дорогу освещала придворная прислуга, ехавшая впереди с фонарями, и благодаря этому лошади мчали быстро…
Анна не успела оглянуться, как ее карета уже остановилась перед домом на Пирнейской улице. Хотя прислуга еще дожидалась министра, но люди спали.
В доме, в котором Гойм занимал только первый этаж, Анна даже не имела особых покоев. Было здесь только несколько комнат да спальня мужа, которая внушала ей отвращение. Сверх того тут были еще канцелярия и архив для бумаг. Кабинет министра прилегал к большой, богато убранной, но мрачной и скучной гостиной.
Графиня удивилась, когда не застала мужа дома, но прислуга передала ей, что это была королевская ночь и что после подобных пирушек пребывание гостей в замке обыкновенно продолжалось до утра и даже дольше.













