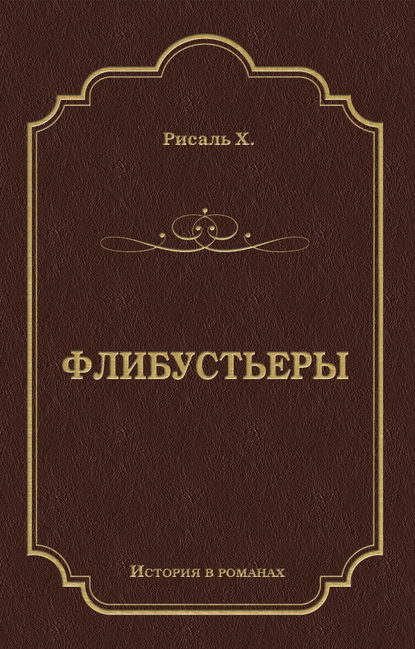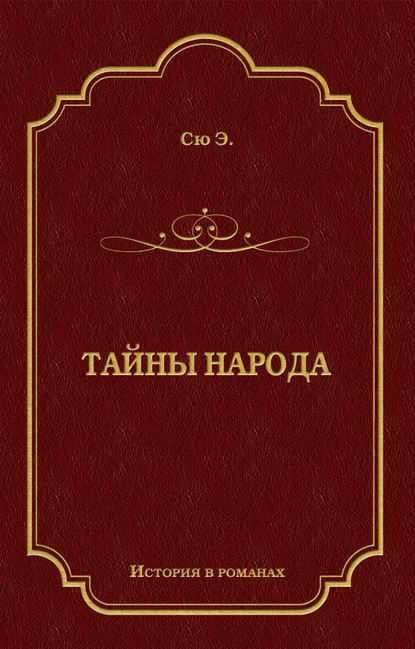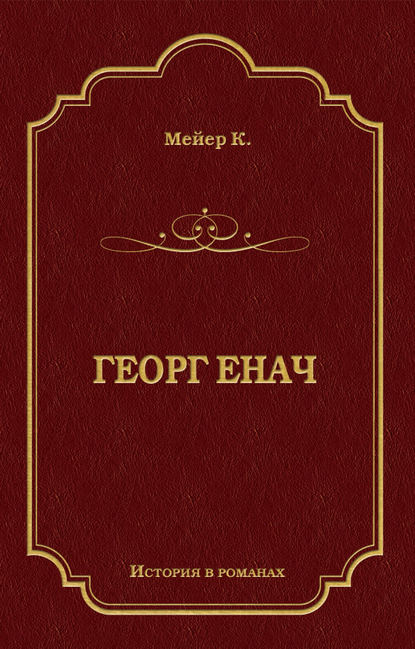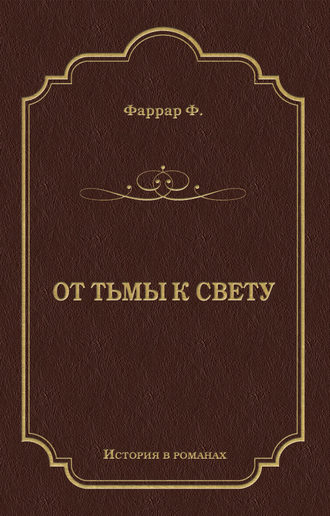
Полная версия
От тьмы к свету
В тот роковой для него вечер Онезим, возвратясь из амфитеатра, был уже не тем человеком, каким был до этого. Не в состоянии успокоиться и остыть после сильного возбуждения, вызванного в нем видом крови и последних предсмертных конвульсий павших в бою для потехи зрителям гладиаторов, он долго проворочался в своем ложе, прежде чем явился сон; но и во сне он все видел перед собой залитую еще дымящейся кровью арену, слышал раздирающие стоны, порой заглушавшиеся взрывами рукоплесканий обезумевшей толпы, и, весь в испарине, вскакивал и сквозь сон кричал не своим голосом. Наконец, после тревожного сна, в продолжение которого его то и дело преследовали и давили эти страшные кошмары, он проснулся усталый и разбитый, и в ушах его все даже наяву раздавался торжественный привет гладиаторов цезарю, и все слышалось страшное это нечеловеческое: «Ave, Caesar, morituri te salutant!»[2]
С этих пор Онезиму совсем опротивела тихая и мирная жизнь в доме Пуденса. Тяготясь своими обязанностями, хотя было их у него и немного, он стал относиться к ним небрежно и бывал счастлив только тогда, когда в кругу своих приятелей мог шататься по харчевням, где весь разговор ограничивался городскими сплетнями и скандалами, толками о заслугах того или другого возницы в цирке или о преимуществах одних гладиаторов над другими, и где единственным времяпрепровождением были азартные игры и пьянство.
Такой образ жизни вскоре привел Онезима к тому, что он стал часто ощущать недостаток в деньгах, которые были ему постоянно нужны и на игру в кости, и на кутежи, и на другие развлечения, в каких проводила время большая часть рабов-язычников. Конечно, он мог бы легко заработать себе денег, так как его должность в доме Пуденса была необременительна и к тому же предоставляла в его распоряжение немало свободного времени; но он уже успел окончательно облениться, так что всякий труд казался ему теперь несносным.
Впрочем, несмотря на это, даже и среди худой атмосферы порока и разврата Онезим вспоминал порой, не без сожаления, о счастливых и мирных годах, проведенных им в доме Филемона, и в такие минуты им овладевало желание уйти от всей этой нравственной грязи в иную жизнь, где бы он мог вдохнуть в себя струю чистого воздуха.
Но, к сожалению, такие хорошие моменты бывали у него непродолжительны и приводили лишь к тому, что после них он старался еще глубже погрузиться в водоворот столичной жизни, словно хотел этим заставить себя не слышать еще пока довольно слабого в нем голоса совести.
А тем временем нужда в деньгах с каждым днем росла, так что, наконец, проиграв свои последние сбережения, он был доведен до крайности.
Украв раз, он решился и вторично украсть.
Тут он стал всячески подкарауливать удобную минуту совершить задуманное. Случай не замедлил представиться, и Онезим, уловив полуденный час, когда все домашние, за исключением двух-трех рабов-христиан и отдыхавшего у себя в комнате Нирэя и его дочери, находились в отлучке на каком-то языческом празднестве, тайком пробрался в опочивальню самого Пуденса с намерением украсть у него денег. Он уже было отворил ящик, где Пуденс держал деньги на домашние расходы, как вдруг ему послышалось, будто в коридоре раздался легкий шорох чьих-то осторожных шагов.
Это были шаги дочери Нирэя, Юнии. Услыхав из своей комнаты, как кто-то, крадучись осторожно, пробирается коридором на половину ее господина, девушка встала и, выйдя в коридор, увидела Онезима, уже подходившего к дверям кабинета Пуденса. Неслышно последовала она за ним, но, дойдя до кабинета, остановилась в дверях. А между тем Онезим, открыв ящик, приостановился: в это мгновение ему каким-то образом припомнились слова Павла, слышанные им в доме Филемона: «Пусть тот, кто крал, больше не крадет, а пусть лучше трудится, работая своими руками». Однако нерешительность юноши длилась недолго: картина Субуры со всеми ее заманчивыми притонами заставила его забыть всякие другие воспоминания, и он уже прикоснулся к содержимому ящика, чтобы докончить начатое, как вдруг кто-то позади него чуть слышно произнес его имя.
– Онезим!
Второпях захлопнув ящик, он бросился к дверям и здесь столкнулся лицом к лицу с молодой девушкой, которая, печально склонив голову, стояла, прислонившись к притолоке.
– Юния! – воскликнул в ужасе юноша.
– Тс! – приложив палец к губам, предостерегла его девушка и поспешила скрыться.
Пораженная до глубины души поступком юноши, к которому с самого начала их знакомства чувствовала большое расположение, она поспешила удалиться с своим горем в самый отдаленный конец тенистого сада. Но Онезим догнал ее.
– Неужели у тебя хватит жестокости, Юния, выдать меня? – спросил он, бросившись перед ней на колени.
Бледная и взволнованная, она тихо сказала:
– От моего отца у меня нет никаких тайн, Онезим, ты это знаешь.
– Но подумай: твой отец обличит меня перед Пуденсом и предаст суду. И тебе не жаль будет, если меня забьют до смерти бичами, а то, может быть, даже и распнут на кресте?
– Нет, Пуденс человек добрый и справедливый, – проговорила девушка, – он никогда не подвергает своих рабов никаким жестоким наказаниям.
– Но он может прогнать меня, наложив мне на лоб позорное клеймо, и уже этого будет довольно, чтобы я погиб навеки, – с горестью сказал Онезим.
– Видит Бог, Онезим, – начала она и вдруг остановилась в ужасе перед сказанным и не подозревая, чтобы Онезим когда-либо слышал учение христианской веры.
– Ты христианка, Юния, и я тоже христианин! – воскликнул обрадованный Онезим и поспешил нарисовать на песке монограмму Христа.
– Нет, ты не христианин, – возразила Юния, – христиане не крадут и не ведут такого образа жизни, как ты все это время.
– Следовательно, ты решила выдать меня! Но помни: теперь ты в моих руках. Христианство – иноземная ересь, строго преследуемая в Риме, и мне стоит донести префекту города…
– Низкий человек, более низкий, чем я думала о тебе даже до этой последней минуты, – сказала она. – Но разве ты не знаешь, – и глаза ее загорелись дивным огнем пламенной веры, – что христиане не боятся страданий, что даже девочка-раба, если только она вкусила благодать истинной Христовой веры, и та всегда готова бесстрашно пойти навстречу смерти.
Никогда еще не казалась ему Юния так чудно хороша, так обворожительна! Но вид гладиаторов, режущих холодно друг друга на куски, пробудил в нем все худшие инстинкты человека, успел породить в его душе черствый эгоизм и равнодушие к участи ближнего. Ужасная мысль промелькнула в голове его. Почему бы ему не избавиться от единственного свидетеля начатого им преступления?
– Итак, ты хочешь предать меня оковам, бичу, распятию на кресте и истязаниям, – сверкнув дико глазами, сказал он, подступив к ней.
Юния, закрыв лицо руками, проговорила сквозь слезы:
– Что велит мне мой долг, то я и обязана делать. Но скрыть это от моего отца я не имею права.
– Так умри же, если так! – воскликнул Онезим и уже схватил было девушку за плечо одной рукой, между тем как в другой блеснул нож, который, идя на кражу, он захватил с собой на всякий случай.
Но, к счастью, чей-то мощный кулак в эту самую минуту повалил его, и тяжелая нога наступила ему на грудь.
– Пощади его, отец! – взмолилась Юния.
Но Нирэй, вырвав кинжал из руки повергнутого на землю юноши, продолжал попирать его ногой. Лицо его дышало негодованием. Он понял увиденную им сцену совсем в ином смысле.
– Объясни мне, Юния, что привело сюда тебя и каким образом случилось, что ты здесь наедине с Онезимом? Какими льстивыми уверениями вызвал он тебя на это свидание? Как осмелился он нанести тебе такое оскорбление?
Девушка рассказала отцу все.
Нирэй с презрением оттолкнул ногой несчастного юношу.
– А я-то иногда еще думал почему-то, что он втайне такой же христианин, – проговорил он в раздумье, – и даже когда-то мечтал видеть в нем со временем достойного мужа для моей Юнии. Вор! Убийца! Вот что значит давать в честном доме приют какому-то неизвестно откуда явившемуся рабу-фригийцу.
– Прости же, отец, его, чтобы и нам простились наши прегрешения, – продолжала упрашивать отца Юния.
– Да, покушение на жизнь самого дорогого для меня существа, на жизнь моей единственной дочери, я мог бы, так и быть, простить, если б заметил в нем чистосердечное раскаяние. Но имею ли право скрыть правду от моего господина? Могу ли после всего этого оставить его в числе своих домочадцев?
– Прости его, мы все люди грешные, и многим ли он преступнее тысяч людей, которые однако ж не висят на кресте и не гниют в тюрьмах.
Онезим простонал.
– Право, уж и не знаю, как мне поступить, – проговорил Нирэй. – Однако ступай теперь к себе, дитя; вернись к своим женщинам и к своему веретену. Потом я еще раз поговорю с тобой об этом. А ты, несчастный, встань и иди за мной.
И, вернувшись с Онезимом в дом, Нирэй приказал двум доверенным рабам-христианам, как и он сам, связать юношу, заключить его в отдельное помещение и держать взаперти под строгим надзором до тех пор, пока он не обсудит хорошенько этого дела и не решит, как поступить с виновником.
Глава XIII
Став императором, Нерон первое время был до того ослеплен блеском нового положения, что в продолжение первого месяца своего царствования ходил как бы отуманенный и только с трудом постепенно осваивался со своим величием и привыкал к мысли, что он император. Но раз постигнув и измерив весь объем своей неограниченной власти правителя величайшей в мире империи, юный император очень скоро вошел в свою роль самодержавного властелина; хотя ни делами государственными, ни вообще какими-либо заботами о благосостоянии своей империи он нисколько не обременял себя, предпочитая отдавать свое время только одним праздным развлечениям и удовольствиям.
Единственно, что тревожило иногда молодого императора среди его беспрерывных кутежей и пиров, это ревнивое вмешательство его матери, с упорством отчаяния все еще силившейся удержать власть, видимо, ускользавшую из ее рук. Нелегко было ей отказаться от всех плодов, во имя которых, побуждаемая своим непомерным властолюбием, она решилась на столько злодеяний, и она всячески старалась поколебать в себе с каждым днем все более окрепнувшую в ней уверенность, что все ее труды и происки в этом смысле были напрасны. Могла ли она допустить мысль, чтобы этот семнадцатилетний, еле ставший на ноги юноша осмелился даже подумать о сопротивлении ей. Всегда неустрашимая и непреклонная в своих намерениях, не была ли она по отношению к нему, как твердый алмаз в сравнении с мягкой неустойчивой глиной? Отпрыск царственного рода, не стояла ли она с младенчества близко к таким родственникам, которые при жизни были обожаемы, а после своей смерти обоготворяемы. Но, на несчастье себе, Агриппина, при всей своей проницательности и при всем уме, не умела достаточно обуздывать бешеных порывов своего вспыльчивого и властолюбивого нрава, и таким недостатком сдержанности ускорила для себя минуту роковой развязки.
Не успел Нерон вступить на престол, как в нем уже стали обнаруживаться весьма несомненные признаки желания выйти скорее из-под контроля императрицы-матери. Паллас, главный сообщник и клеврет Агриппины, очень скоро впал в немилость цезаря и был им удален. Сенека и Бурр, не страшась более ее гнева, старались всячески противодействовать ее влиянию. Искатели цезарских милостей и благоволения старались заручиться не только ее покровительством и защитой, сколько протекцией Актеи, да и сам Нерон, постоянно окруженный своими фаворитами, развратными молодыми аристократами, и толпой разного рода проходимцев, шутов и паразитов, с каждым днем все яснее и бесцеремоннее выказывал свое полнейшее равнодушие как к угрозам и приказаниям матери, так и к разумным ее советам, не без самодовольства щеголяя своей внезапно появившейся независимостью. Самолюбивая и гордая Агриппина была уязвлена и краснела даже наедине с самой собой при мысли, что ее, для Нерона ни перед чем не остановившуюся, могла вытеснить из сердца ее сына жалкая и ничтожная вольноотпущенница Актея и что ее влияние над ним могло превозмочь влияние изнеженных ничтожеств вроде завитого и раздушенного Отона. Как жестоко она ошиблась в своих расчетах! Первое лицо в империи при Клавдии, неужели же она извела мужа только для того, чтобы сделаться самой нулем в руках таких людей, даже ненавидеть которых она не могла, до того глубоко было ее презрение к ним?
Но жребий был брошен: уничтожить сделанного было нельзя. Оставалось ждать грозного часа расплаты за учиненное зло, а до тех пор по возможности осторожнее стараться двигаться на краю ужасной пропасти. Сорвав заманчивый плод, она убедилась, что он полон смертельной отравы.
А между тем сложить покорно с себя всякий авторитет в делах правления, не сделав, по крайней мере, хоть одной попытки удержать за собой некоторую власть, было свыше сил гордой и властолюбивой женщины. Сохранив пока еще за собой право иметь во всякое время, когда бы она ни вздумала, доступ в кабинет императора, она нередко пользовалась им, с целью, ворвавшись к нему, осыпать его упреками, насмешками, а часто даже и угрозами. Перестав давно скрывать от сына, что Клавдий погиб от ее руки жертвой ее честолюбивых замыслов, она укоряла Нерона в неблагодарности, высказывала ему свое презрение, издеваясь над его изнеженностью и стараясь уязвить сарказмами, ставила ему в образец благородство и высокое мужество обиженного ею Британника, говорила ему, что он скорее годится в плохие актеры, третьестепенные колесничные ездоки или в третьеклассные певцы, нежели в императоры.
– И допустить, что в жилах твоих течет благородная кровь Домициев и цезарей! – кричала она, выходя из себя от злобы и негодования. – Какой ты император, – разве балаганный! В тебе нет ничего – не только величия цезаря, но даже мужества простого и благородного римлянина. Но не забывай, если ты император, то этим обязан мне и моим стараниям.
– Напрасно трудилась; лучше было бы оставить меня в покое и не возводить на престол, – проговорил угрюмо Нерон. – Удивительное удовольствие считаться императором и иметь тебя за спиной, подсматривающею мой каждый шаг и властвующей надо мной!
– Подсматривать! Властвовать! И это говоришь ты, после того как не побоялся и не постыдился дать в соперницы своей матери какую-то жалкую ничтожную рабу! Не забывай, Агенобарб, что я дочь Германика, сколько бы ни был ты мало достоин быть его внуком. Презренный трус! От кого только мог ты наследовать женственную склонность к изнеженному образу жизни, мелочность и бесхарактерность? Не от меня, без сомнения, а также и не от отца твоего. Жестокий, он был, однако ж, и мужествен, и неустрашим, и я не думаю, чтобы он не погнушался быть отцом такого несчастного поэта и жалкого певца, как ты.
Задетый за живое упреками матери и особенно ее глумлением над его талантами, перед которыми друзья его рабски преклонялись, Нерон, в свою очередь, вышел из себя.
– Какой бы я ни был, но тем не менее теперь я император, – вскричал он, – и я посоветовал бы помнить тем, кому ведать это не мешает, что бывали такие примеры, что если не матерям, то, по крайней мере, женам и сестрам цезарей приходилось остывать от излишнего пыла своей ярости среди утесов прохладных понтийских или гнарских берегов.
– И ты осмеливаешься, дерзкий, угрожать мне! – воскликнула Агриппина. – Мне, твоей матери, которой ты обязан всем, начиная с жизни и кончая тем, что ты теперь не бедный, ничтожный мальчишка, а властелин полумира!
– Ты назвала сейчас меня актером; но мне кажется, что скорее же ты актриса, хотя и довольно второстепенная, – насмешливо усмехаясь, заметил Нерон.
Агриппина вскочила.
– О боги, если только они существуют, пусть услышат меня, – воздев к небу руки, воскликнула она. – Им поручаю я воздать тебе сторицей за все твои обиды мне.
– Напрасны твои проклятия: призвать несчастья на мою голову они не в силах; у меня есть против них верный отворот – чудесный талисман. Вот он, взгляни.
И Нерон протянул к ней крошечную деревянную куклу – icuncula puellaris, – очень таинственно как-то раз подаренную ему кем-то на улице с уверением, что этот талисман не только убережет его от всяких бед и напастей, но и будет ему отворотным средством против дурного глаза. Суеверный император верил слепо в чудесную силу этого амулета. Но Агриппина, взяв талисман в руки и еле удостоив его взглядом, с нескрываемым презрением отбросила его далеко от себя.
Нерон промолчал; но лицо его приняло при этом такой вид, что даже сама Агриппина испугалась и, убоявшись, не зашла ли она уж слишком далеко, поспешила заметить ему в тоне более примирительном:
– Зачем тебе этот амулет, если у тебя есть другой, лучше этого, который подарен тебе твоей матерью?
И говоря это, она взглядом указала ему на золотой змеевидный браслет, который он с детства носил на правой руке и в который была вделана кожа змеи. Об этой змее сложилось множество легенд и, между прочим, рассказывалось, будто ее застали ползающей вокруг колыбели Нерона; другие же к этому добавляли, будто змея эта была воплощенным добрым гением Нерона, спасшим его своим появлением у его колыбели от рук подосланных Мессалиною убийц, бежавших при виде змея. Но как бы то ни было, а дело в том, что тогда же Агриппина велела оправить кожу этой змеи в золото и драгоценные каменья в виде браслета, и позднее, надевая этот браслет на руку сына, просила его никогда с ним не расставаться. И теперь, пока она смотрела так пристально на браслет, в чувствах ее к сыну произошла внезапная перемена. Не воскресил ли вид этого браслета перед ее духовным взором образ златокудрого ребенка с голубыми ясными глазами, ребенка, для которого мать была всем, который как в минуты детского горя, так и в минуты детской радости приходил лишь к ней и, обвившись вокруг ее шеи ручонками и положив головку ей на плечи, доверчиво и сладко засыпал у нее на груди? А теперь этот самый ребенок – император благодаря ее проискам и преступлениям – стоял перед ней, ненавидящий и ненавидимый со злой усмешкой на губах, с грозно нахмуренным лицом. А между тем этот сын, не он ли был единственным близким ей существом! Отец ее был убит, мать тоже, братья также погибли насильственной смертью, сестры умерли в позорном изгнании, – первого ее мужа давно не было в живых, два других умерли отравленные и притом ее же рукой; друзья и приверженцы были в тяжелой ссылке. Глубоко и широко зияла вокруг нее бездна ненависти и злобы – она это знала, как знала и то, что нет у нее во всем мире ни одного искренне преданного ей человека, кроме только двух-трех ничтожных вольноотпущенников. Все яснее и яснее сознавая свое страшное одиночество среди этого многолюдного дворца, она за последнее время начала было уже делать некоторые попытки снискать себе если не привязанность так жестоко обиженных ею Британника и Октавии, то хотя бы их прощение и некоторое снисхождение. В ней проснулась жалость к ним, обиженным ею. Но, увы! Ей скоро пришлось убедиться, что как для кроткой Октавии, так и для незлобивого Британника любить ее было свыше сил. Привязанность сына – вот единственное, что ей оставалось, а между тем она видела, что и он все дальше и дальше сторонился от нее с чувством очень близким к отвращению и ненависти.
Все эти безотрадные мысли вихрем пронеслись в уме несчастной жертвы своего честолюбия, и, не находя сил совладать с припадком отчаяния, она залилась горькими слезами.
– Прости мне мою безумную вспышку, Нерон, – рыдая проговорила она, протягивая с мольбой к сыну руки. – Прости, тебя просит твоя мать. Как у меня, так ведь и у тебя, нет в мире никого, кто бы стоял к нам ближе, чем стоим мы друг к другу. Прости и дай мне еще раз почувствовать, что я еще не совсем утратила любовь моего сына, для которого жила, для которого готова и умереть.
Но эти слова матери очень мало тронули Нерона.
– Странно! То проклинаешь меня, то умоляешь и плачешь, – холодно заметил он ей. – Уж не думаешь ли, что один только твой амулет может предохранить меня от бешеных порывов твоей ярости! Сейчас надругалась ты над подаренным мне талисманом, а потому вот, смотри, как я дорожу твоим подарком. Никогда в жизни моей более не надену я его.
И, сняв с руки браслет, он со злостью швырнул его со всего размаху на пол.
– Вот он! Можешь взять его себе: он мне больше не нужен. – И после этого Нерон вышел из залы, не сказав матери ни одного слова на прощание.
Агриппина в первую минуту стояла как окаменелая, и только ноздри ее широко раздувались, да в глазах зажигался недобрый огонек. Слез же точно и не бывало.
– О обиженный Британник, о бедная Октавия! Разве нет возможности поправить сделанного вам зла? – вполголоса проговорила она. – Нет! Мщение за смерть Клавдия было бы их первым делом. Но ведь еще живы и Корнелий Сулла и Рубеллий Плавт. Что мне может помешать, даже и теперь, смести с моей дороги – хотя он мне и сын – этого жалкого гаера и певца, а на его место возвести на престол цезарей того или другого из них!
И, подняв с полу браслет, она шепотом прибавила:
– Как он сказал, пусть так и будет; никогда не видать ему более и не носить этого талисмана.
Нерон, когда для него настал ужасный день его последних счетов с жизнью, тщетно старался найти этот амулет.
Глава XIV
Рим становился и пылен и душен. Приближался сезон лихорадки. Утомленный придворными пирами и кутежами и не менее того своими беспрестанными пререканиями с матерью и бурными сценами с ней, Нерон прорывался на чистый воздух, на простор вольной загородной жизни, где бы он мог, вдали от стеснительного придворного этикета, отдаться всецело своим наклонностям к эстетическим наслаждениям.
На этот раз из всех своих роскошных вилл он выбрал для летней резиденции виллу, недавно приобретенную им в одном из наиболее диких и мрачных ущелий Симбруинского кряжа Апеннинских гор. Как сама местность по живописности быстрых горных потоков, тенистых рощ, крутых обрывистых оврагов, скалистых склонов, так и здание виллы по легкости и изяществу своей архитектуры представляли нечто в полном смысле очаровательное. Стены виллы внутри были расписаны альфреско известнейшими мастерами жанровой живописи; в садах среди зелени богатой растительности белели чудные статуи, изваянные рукой таких великих скульпторов, как Пракситель и Мирон, лились фонтаны, журчали ручейки, шумели водопады, виднелись таинственные гроты, красовались причудливые храмы.
В первый раз отправлялся Нерон провести лето среди волшебной обстановки этого восхитительного уединения. Из Рима он двинулся, сопровождаемый блестящей свитой и целым полчищем рабов, из которых на многих лежала обязанность подавать императору с надлежащей бережностью его лиру или какой другой музыкальный инструмент.
Агриппина, снедаемая горем обманутых надежд и жаждой мести, отказалась наотрез от приглашения императора поехать с ним в его летнюю резиденцию, как ввиду оскорбительной формы самого приглашения, так и некоторых опасений с ее стороны разделить с ним уединение, в котором предвидела для себя лишь новые причины к неудовольствию и раздражению. Вместо этого она предпочла переехать на лето в свою собственную великолепную виллу Баулы, в Кампании, где за отсутствием другого, более серьезного дела рассчитывала заняться продолжением своих мемуаров, развлекаясь в часы досуга кормлением миног и долгоперов, прирученных до того, что они являлись на ее зов и брали корм из ее рук.
Менее счастливая в этом отношении, Октавия поневоле должна была сопровождать императора, своего мужа, который при всем своем желании оставить ее в Риме решил тем не менее взять ее с собой, чтобы не идти чересчур открыто против общественного мнения, требовавшего от него некоторых внешних знаков уважения к жене, как к императрице и дочери Клавдия. Но кортеж Октавии не отличался ни блеском, ни многочисленностью, состоя исключительно из небольшой части полагавшихся ей шестисот рабов. И того малочисленнее была свита Британника, приглашенного только потому, что оставить его в Риме на такое время года, когда Лабитиния требовала наибольшего числа жертв, могло бы показаться в высшей степени неблаговидным; вдобавок же Нерон чувствовал себя даже спокойнее, зная, что он у него на глазах. Впрочем, Британник был совершенно счастлив, так как с ним был его друг Тит, отец которого Веспасиан, а также и мать Флавия Домицилла получили приглашение провести некоторое время в гостях у императора; знал он также, что и Пуденс в качестве центуриона преторианской гвардии, и Эпиктет, как раб секретаря Нерона, должны были необходимо войти в состав почетного конвоя императора.
Нерон, любивший, в особенности в первое время своего царствования, окружать себя более или менее образованными людьми, пригласил, кроме того, и Сенеку, Бурра и Лукиана, восходившую в то время звезду в мире поэтов, сатирика Персия, сатиры которого тогда еще хранились, на его счастие, под замком его письменного стола, и, кроме того, известного натуралиста этой эпохи Плиния Старшего. Однако, как ни старался Нерон уверить всех в своем пристрастии к литературе, трудно было не заметить, что настоящее удовольствие он находил преимущественно или в беседах с циничным Петронием, или в фривольных разговорах с изящным ловеласом Отоном. Никем и ничем не стесняемый, молодой император вволю упивался чашей наслаждения среди чудной обстановки своей роскошной виллы, имевшей к тому же то преимущество, что, по счастливой случайности, она состояла из двух зданий, отделявшихся мостом через глубокий и широкий овраг, что представляло для Нерона возможность менее приятных ему гостей поместить в вилле Кастор, а между тем как сам он с избранными друзьями и приятелями поместился в вилле Полукс.