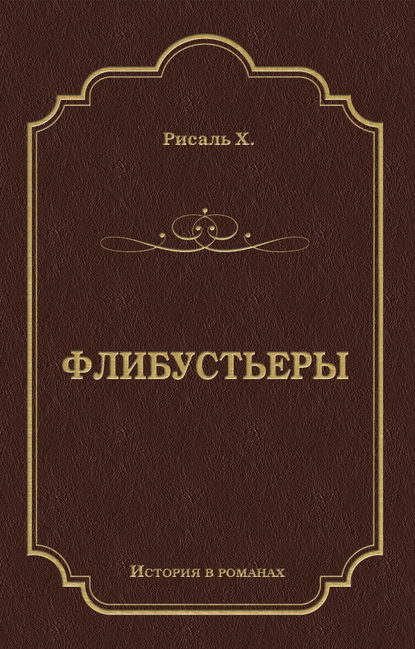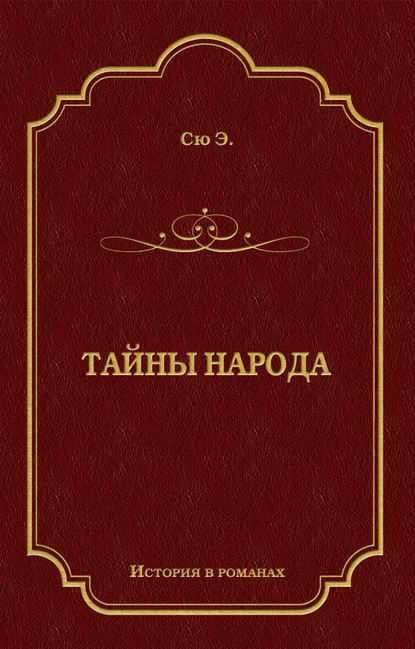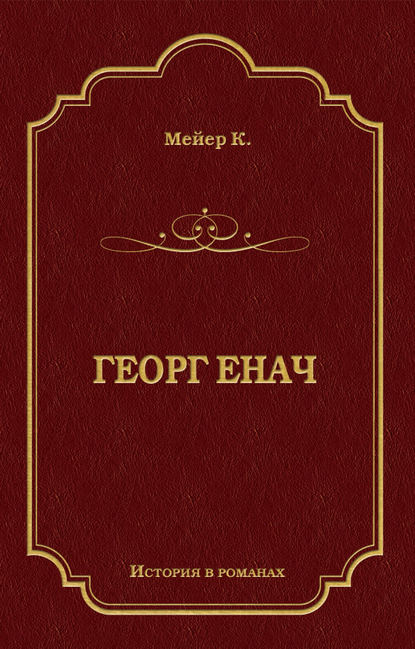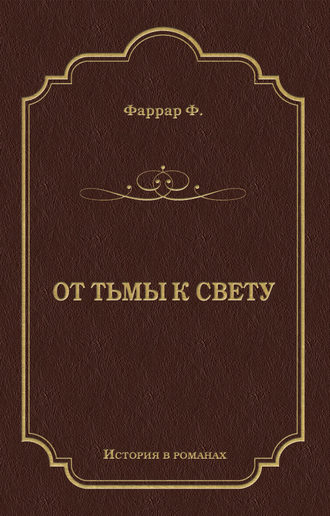
Полная версия
От тьмы к свету
– Такой гастрономический деликатес, Галот, надо приберечь исключительно для стола императора, и особенно вот этот болет – самый лучший и большой – я предназначаю одному только цезарю. Клавдий будет польщен и тронут моими заботами угодить его вкусам, а вы, если только я останусь довольной вами, можете отныне смотреть на себя, как на человека свободного.
Евнух молча поклонился, но, когда он вышел за дверь, его старческое, морщинистое лицо искривила недобрая усмешка.
Настал вечер; но к ужину на этот раз было приглашено против обыкновения лишь очень небольшое число наиболее приближенных к цезарю людей. За сигмою, или полукруглым столом, за которым возлежал император, были только, кроме бывшей с ним рядом императрицы, – Октавия, Нерон и Паллас. Немного поодаль, за другим столом, помещались: начальник преторианского лагеря Бурр Афраний и Сенека, наставник Нерона, и еще два-три приглашенных для компании сенатора. Но хотя никто из этих лиц, за исключением Палласа и стоявшего позади императора евнуха Галота, не имел ни малейшего подозрения относительно готовившейся разыграться в эту ночь драмы, однако все они почему-то находились как бы под гнетом чего-то удручающего: было ли то тяжелое предчувствие или безотчетный страх перед неведомой опасностью, но разговор за ужином в этот вечер как-то не клеился и, несмотря на все старания красноречивого Сенеки оживить его искусной диалектикой, был вял и никого, по-видимому, не интересовал. Да и за столом цезаря замечалось нечто среднее между страхом и ожиданием. Нерон, которому в течение дня Агриппина сделала вскользь два-три неясных намека, сидел понурый и как бы встревоженный. Октавия, в то время девочка лет четырнадцати, как и всегда, робела в присутствии своего мужа Нерона и упорно молчала. Клавдий всецело отдался еде и один за другим выпивал кубки фалернского вина. Одна императрица была очень разговорчива и казалась очень веселой: она шутила, смеялась и не раз принималась благодарить цезаря за то, что он так благоразумно внял ее просьбам и дал себе некоторый отдых, чем восстановил свое здоровье.
– А вот и маленький сюрприз, который я принесла для цезаря, – сказала она. – Мне ведь известно, что эти редкие грибы болеты – любимое кушанье моего императора. Блюдо это приготовлено исключительно для нас одних. Два-три гриба я возьму себе, но все остальные должен съесть император, а особенно вот этот.
И императрица собственноручно положила на тарелку Клавдию злосчастный гриб. Император с жадностью накинулся на лакомое кушанье, благодаря императрицу за внимание. Однако через несколько времени он вдруг стал дико озираться, хотел было что-то сказать, но язык не повиновался ему; тогда он встал из-за стола, но сейчас же пошатнулся и, как сноп, свалился на руки вероломного изменника Галота.
Несчастного императора поспешили вынести из триклиниума в нимфеум, залу, уставленную редкими растениями, между которыми лились фонтаны в широкий бассейн. Сюда немедленно призвали врача Ксенофонта, который начал с того, что приказал перенести императора в его опочивальню.
Пораженные ужасом, Сенека и Бурр многозначительно переглянулись; но никто из присутствовавших не вымолвил ни слова, и только после того, как Агриппина, подойдя к Палласу, шепнула ему на ухо, чтоб он удалил гостей, этот последний встал и громогласно объявил, что император внезапно заболел, и что хотя опасного, по-видимому, ничего нет, все-таки императрица очень встревожена и, понятно, желала бы всецело отдаться теперь уходу за больным цезарем, ввиду чего гостям всего лучше удалиться.
Император между тем лежал в своей опочивальне, тяжело дыша и в конвульсиях; по временам он впадал в бессознательное состояние, и тогда лежал неподвижно; и затем вновь начинались судороги, сопровождавшиеся предсмертным бредом. Появилось опасение, как бы вино, поглощенное им за столом в изрядном количестве, не парализовало действие яда. Час шел за часом, а император все еще дышал. Тогда Ксенофонт, видевший опасность, обратился к тем немногим посторонним лицам, которые находились в опочивальне цезаря, и под тем предлогом, что больному необходим прежде всего полный покой, попросил их удалиться, а императрицу взять на себя обязанности сиделки. После этого он потребовал, чтобы ему принесли длинное перо, чтобы посредством щекотания горла вызвать рвоту, а с нею и облегчение. Ему принесли длинное перо фламинго, которое предатель, едва раб, принесший перо, скрылся за дверью, смазал быстродействующим ядом и таким образом ввел его в организм цезаря. Действие этого яда было немедленное. Вздувшееся тело императора за секунду приподнялось в последнем предсмертном содрогании – и все было кончено. Клавдия не стало.
Равнодушно и спокойно смотрела Агриппина на страшное зрелище и ни одной слезой, ни одним вздохом не почтила убийца последние минуты жизни своего мужа и дяди.
– А теперь надо будет до времени скрыть от народа и войска смерть императора, – сказала она, обращаясь к Ксенофонту. – Оставайтесь здесь, а я пойду и объявлю, что он погрузился в благотворный сон и завтра проснется, вероятно, совершенно здоровый. Не сомневайтесь: щедрые милости посыпятся на вас с воцарением Нерона. Но до того времени еще много дела впереди.
И Агриппина поспешила на свою половину, откуда разослала, несмотря на полуночное время, гонцов в разные концы Рима. Жрецам она послала приказ возносить усердные молитвы всем богам о выздоровлении цезаря; консулам велела немедленно созвать сенат и вместе с тем послала секретную инструкцию, чтобы они, молясь о выздоровлении императора, в то же время были готовы на все. Особые гонцы были отправлены, один к Сенеке, другой к Бурру: первому с приказанием приготовить речь, которую, в случае надобности, мог бы произнести Нерон перед сенатом; второму – с требованием явиться с зарею во дворец и оставаться там в ожидании исхода событий.
В то же время она дала строжайший приказ, чтобы все дворцовые входы и выходы оберегались часовыми и чтобы никого не пропускали ни во дворец ни из дворца без письменного разрешения. А между тем ни Британник, ни Октавия, не имевшие во всем дворце почти никого, кому были бы дороги их интересы, ничего не знали о происшедшем в опочивальне их отца – их единственного защитника. От приставленных же к ним шпионов и предателей им удалось узнать лишь то, что император внезапно занемог после ужина, но что теперь ему уже лучше, и он спокойно спит.
Приняв все нужные для своей цели меры предосторожности и сделав распоряжение, чтобы никого, кроме Палласа, в комнату больного, подле мертвого тела которого оставался Ксенофонт, не впускали, Агриппина удалилась в опочивальню. Но прежде чем лечь, она, пожелав взглянуть на ночное небо, подошла к окну и увидала вдали на горизонте какую-то яркую полосу света. Призвав своего астролога, она спросила его, что это значит. В первую минуту астролог как будто чем-то смутился; но немедленно же поспешил объяснить императрице, что это – комета.
– Не предвещает ли такое знамение какого-нибудь несчастья? – спросила она.
Но такое толкование было не в расчетах хитрого грека, и потому он ответил:
– Нет, такое знамение может предвещать и блестящее начало нового царствования.
Успокоенная этими словами, Агриппина, приказав своей служанке разбудить себя часа через три, легла и скоро заснула сладким сном невинного младенца. Ни страшный кошмар, ни бледные призраки прошлого, ни раздирающие стоны только что отравленного мужа, ни грозные голоса карающих фурий – ничто не потревожило ее сна, и утренняя заря не успела еще заняться на небе, как Агриппина, разодетая в пышный царский наряд, спокойная, раздушенная, вышла из опочивальни, чтобы закончить то, что в течение столь многих лет было главной целью ее ненасытного честолюбия.
Глава V
Выйдя из опочивальни, Агриппина прежде всего позвала своих астрологов и халдеев-гадателей. Слепо веря в их прорицания, она боялась сделать решительный шаг, не услыхав от них подтверждения, что настала минута, благоприятная для затеянного ею переворота. Затем она поспешила в спальню Клавдия, где врач Ксенофонт очень спокойно сторожил бренные останки отравленного им человека. Циник и атеист в душе, он не знал ни страха перед преступлением, ни укоров совести после его совершения, и теперь мечтал лишь о тех богатых дарах, которые достанутся ему в награду за ловкое содействие и молчание.
Войдя в комнату, Агриппина сказала врачу, указывая на покрытое пурпуровым покровом тело Клавдия:
– Обнародовать о его кончине пока еще рано. Благоприятного предзнаменования, по словам халдеев, пока еще нет. Но как устроить, чтобы в продолжение еще нескольких часов скрыть его смерть?
– Асклепиад советует нам, врачам, прибегать к звукам музыки и пения для утешения страданий умирающих, – с плохо скрытой насмешкой отвечал врач, – и ввиду этого императрица поступит очень благоразумно, если прикажет позвать комедиантов и музыкантов и велит им играть и петь в соседней комнате. Доставить развлечение божественному Клавдию они, конечно, уже будут не в силах; но они позабавят по крайней мере меня в одиночестве…
– Но не появилось ли бы в ком-нибудь подозрения, что он уже скончался?
– Нет, Августа, чтобы не дать заметить мертвой тишины, я нарочно сам по временам стонал и покашливал.
Императрицу в первую минуту, казалось, смущала мысль призвать в комнату, по соседству с которой лежал покойник, музыкантов и мимов. Но, понимая, что такая мера могла действительно помочь ей скрыть на время действительность, она решилась последовать совету врача. Но, прежде чем покинуть опочивальню цезаря, она подошла к ложу умершего и на минуту приподняла покров с его лица; но тотчас же и раскаялась в неуместном любопытстве: это мертвое лицо, с которого смерть успела согнать все следы человеческих слабостей и страстей, наложив на него свою печать строго-величавого спокойствия, до конца дней преследовало ее как грозно-укоряющий призрак.
Выйдя из спальни цезаря, она тотчас же приказала пригласить музыкантов и мимов, так как император, сказала она, проснулся и пожелал иметь какое-нибудь развлечение. И скоро в соседней с покойником комнате раздались звуки музыки и пения, чередовавшиеся с грубыми шутками и шумными буффонадами мимов.
Тем временем Агриппина, поместившись в одной из приемных зал, велела позвать к себе Британника, Октавию и сводную сестру их Антонию и стала осыпать их самыми нежными ласками, стараясь удержать их возле себя, в особенности же Британника. Она целовала юношу, обнимала его, со слезами на глазах называла живым портретом Клавдия, настоящим цезарем, проводила своей белоснежной рукой по его длинным шелковистым волосам и, чтобы успокоить его, делала вид, будто ежеминутно посылает в опочивальню цезаря справляться об его здоровье. Но все это время под личиной спокойствия и нежного участия она болела душой, томясь в муках страшно-тревожной неизвестности, так как астрологи и халдеи все продолжали уверять ее через ее клевретов, что благоприятная минута еще не настала. С другой стороны, ее отчасти беспокоили и Британник, который, мучимый тяжелым предчувствием грядущего несчастья, более и более порывался, как и Октавия, к больному отцу. Тщетно старалась Агриппина отвлечь мысли юноши от того, что происходило в опочивальне цезаря, развлечь его различными рассказами и, наконец, даже предложила подарить ему своего белого соловья, считавшегося во всем Риме величайшей редкостью. Однако ж Британник, несмотря на свою страсть к птицам, на этот раз холодно отказался от ее предложения, заметив, что вовсе не желает лишать ее такой птицы, которой завидует весь Рим. Наконец, волнение и беспокойство юноши достигло крайних пределов.
– Я уверен, – сказал он, – что отец мой занемог серьезно, и, конечно, желал бы видеть меня подле себя. Я уже не ребенок, чтобы в такой момент сидеть здесь, в бездействии, среди женщин, а потому позвольте мне, Августа, пойти к императору.
– Еще потерпи немного, дорогой мой Британник, – ласково стала уговаривать юношу Агриппина, – ведь не захочешь же ты потревожить своего отца, прервав своим приходом его сон, от которого зависит, быть может, самое выздоровление.
Это было сказано, чтобы выиграть время и вместе с тем успокоить юношу, хотя Британник и сам понимал, что всякая попытка его уйти без разрешения императрицы была бы бесполезна. Все входы и выходы дворца оберегались толпой рабов, отпущенников и солдат, стоявших на жалованье у Агриппины. К тому же все утро в длинных проходах то и дело раздавались чьи-то тяжелые и торопливые шаги и вообще по всему можно было догадаться, что во дворце творится что-то необычайное. Но вот и на улице, со стороны главных ворот, послышались бряцание оружия и шаги военного отряда.
В эту минуту в дверях залы показался Паллас и с низким поклоном печально проговорил:
– Августа, я огорчен необходимостью сообщить вам плачевное известие: император Клавдий скончался.
При этом известии Октавия, введенная в заблуждение уверениями Агриппины, начала горько плакать. Британник опустился на сиденье и, склонив голову, закрыл лицо руками. Он любил отца горячо и искренно и в первую минуту тяжелого горя был далек от всяких эгоистических помыслов, хотя и знал, что будет призван наследовать отцу на римском престоле. Затем он встал, провел рукой по заплаканным глазам и, подойдя к своей сестре Октавии, обнял ее ласково и сказал:
– Теперь мы круглые сироты с тобой, Октавия. Матери у нас давно уже нет, а сегодня мы лишились отца. Мы остались одни и должны крепко стоять друг за друга. Не падай духом! И ты тоже, Антония, успокойся и не плачь: обещаю быть всегда добрым братом как для одной, так и для другой из вас.
А тем временем Агриппина с появлением в зале Палласа тотчас же сняла с себя личину, поняв, что халдеи и астрологи наконец-то остались довольны небесными знамениями. Через минуту она уже слышала, как, скрипя, отворились дворцовые ворота, затем она услышала голос Бурра, приглашавшего военную когорту встретить приветствием своего нового императора, и, наконец, – о счастливый миг! – до нее один за другим начали доноситься восторженные клики войска и народа: «Да здравствует император Нерон!», «Да здравствует внук славного Германика!».
Тогда она встала торжествующая, вышла на террасу и увидала вдали своего сына. Лицо молодого человека сияло торжеством и радостью, глаза блестели, длинные вьющиеся волосы, развеваясь, казались золотыми, освещенные лучами полуденного солнца; его невысокая, но стройная фигура была облечена в пурпуровую мантию римских императоров. Опираясь на руку преторианского префекта, он обходил ряды дворцовой когорты.
– Преторианцы! – громко взывал к солдатам Бурр. – Глядите, вот император ваш, Нерон Клавдий цезарь.
– Нерон! – послышалось в рядах несколько робких и как бы нерешительных восклицаний. – Но где же Британник? Где родной сын императора?
И солдаты в недоумении стали озираться. Но в то время Бурр, чтобы положить конец опасным колебаниям, громогласно скомандовал: «Принесите носилки!». И через минуту Нерон на богато разукрашенных носилках и сопровождаемый префектом, во главе избранной когорты кавалеристов, направился по дороге к лагерю преторианцев.
Теперь торжество Агриппины дошло до апогея. Гонцы за гонцами являлись к ней с известием, что все римляне, как один человек, приветствуют ее сына своим императором и что в воздухе стоит стон от громкого ликования народа и восторженных приветствий в честь юного цезаря.
Потом вновь избранного императора понесли с музыкой и песнями, заглушаемыми радостными кликами сопровождавшей его толпы народа, в сенат. Но и по дороге в сенат нашлось все-таки несколько смельчаков, во всеуслышание и не без изумления спрашивающих: «Где же Британник? Где родной сын Клавдия?» Эти возгласы, как ни терялись среди шума других криков, долетели и до слуха Британника. Он было хотел при этом выбежать на балкон и показаться народу, но повелительный жест Агриппины и Палласа, который схватил его за плечо, остановили юношу. В отчаянии он опустился на стул и закрыл лицо руками. Октавия, в свою очередь, подошла к брату и стала утешать его. Сознавая свое бессилие, видя себя всеми оставленным, понимая свое одиночество в этом дворце и, наконец, услышав среди криков, приветствующих Нерона, крик: «Да здравствует дочь нашего незабвенного Германика!», бедный юноша понял, что всякая борьба была бы теперь более чем бесполезна, и молча покорился было своей участи, как вдруг вскочил и, бледный от негодования, встал перед Агриппиной.
– Почему императором провозглашен не я? – спросил он, грозно сверкнув глазами. – Не думаю, чтобы мой отец когда-нибудь имел намерение лишить меня законных моих прав. Я родной его сын, а не приемыш. Это заговор! Где завещание покойного государя, моего отца? Почему не представлено оно сенату для обнародования?
Императрица стояла, пораженная удивлением, услышав такой энергичный протест из уст этого мальчика, всегда кроткого и безответного.
– Глупый мальчик! – сказала она. – Тебе ли, еще ребенку, на которого не возложена тога зрелости, тебе ли совладать с тяжелым бременем правителя мировой империи? Но не бойся: Нерон твой брат, не даст тебя в обиду.
– Не даст меня в обиду! – с негодованием повторил возмущенный до глубины души Британник. – Это заговор! Хитрыми происками украли вы у меня наследство моего отца, чтобы отдать его вашему сыну Агенобарбу.
Услышав это, Агриппина уже было подняла руку, чтобы ударить юношу, но тут вмешался Паллас и, остановив ее, твердо, хотя и не без нежности в голосе, сказал молодому принцу:
– Замолчите, если не хотите себя погубить безвозвратно. Оставьте эти вопросы, молодой человек: не нам с вами решать их. Это дело сената, преторианцев и римского народа. Если войско избрало Нерона своим императором и сенат утвердил такой выбор – он ваш император, и вы должны ему повиноваться!
– Всякое сопротивление с твоей стороны будет бесполезно, брат, – заметила ему и Октавия. – Отца у нас нет, Нарцисс удален, и здесь нет никого, кто бы мог заступиться за нас.
– Никого, кто бы мог заступиться! – повторила Агриппина. – И это говорит Октавия, жена моего Нерона! Неблагодарная! Разве отныне ты не императрица? Не первое лицо после Нерона?
Но на это Октавия ничего не ответила, а только повторила:
– Отец наш скончался! – И потом прибавила: – Не разрешит ли нам Августа теперь пойти к нему и поплакать над его телом?
– Идите! – сказала Агриппина и прибавила: – Я же со своей стороны приму все меры, чтобы был он причислен к сонму бессмертных богов и чтобы народ воздал его останкам все почести, какие следуют члену дома цезарей.
Затем, обратясь к лицам своей свиты, она приказала им распорядиться, чтобы у входа в атриум был поставлен кипарис; чтобы в комнате покойника и днем и ночью курили фимиам; чтобы тело умершего облекли в императорскую тогу поверх туники; чтобы ко дню погребения были сделаны все приготовления для погребальной процессии: с женщинами-плакальщицами, флейтщиками и трубачами, актерами и масками, с герольдами и ликорами в траурном одеянии.
А Нерон в это время произносил перед сенатом весьма эффектную речь, сочиненную для него Сенекой, – речь, в которой излагалась в самых красивых и громких фразах самая квинтэссенция мудрого правления и которую прерывали ежеминутно оглушительные взрывы единодушных рукоплесканий. Наконец, сенаторы, умиленные и восхищенные, не зная, чем почтить юного императора, предложили ему принять титул «отца своего отечества», на что Нерон ответил скромно: «Да, но не прежде, чем заслужу его».
День приближался уже к вечеру, когда вблизи дворца вновь раздались оглушительные крики ликования, возвещавшие Агриппине о приближении Нерона, возвращавшегося в сопровождении Бурра, Сенеки, преторианцев и целой толпы шумно ликовавшего народа из курии во дворец.
В золотой парчовой палле поверх пурпуровой столы, густо усеянной жемчугом, Агриппина, в ожидании сына, восседала в тронной зале. И как только увидала Нерона, она сошла с высоты позолоченного трона и горделивой поступью пошла ему навстречу.
Нерон, подойдя к матери, наклонился было, чтобы поцеловать ей руку, но Агриппина, позабыв в порыве материнского чувства придворный этикет, заключила его в свои объятия.
В этот день Агриппина поднялась до высшей точки той высоты, к которой всю жизнь стремилась эта женщина в ее чудовищном честолюбии.
Ее сын был императором, и она ласкала себя уверенностью, что этот новый император в ее сильных и опытных руках будет податлив и мягок, как воск. Внучка и правнучка императоров, она в то же время была и сестрой одного императора, и супругой другого и, в заключение, матерью третьего!
Совсем позабыв об отравленном ею муже, Агриппина строила самые грандиозные планы на будущее время своего нераздельного, как она полагала, владычества, когда после вечернего банкета к ней зашел Нерон, слегка разгоряченный изрядными возлияниями и несколько утомленный событиями дня. Пока мать и сын, прежде чем пожелать друг другу покойной ночи, дружески беседовали, поздравляя друг друга с блестящим началом нового царствования, к Нерону явился центурион дворцового караула, чтобы от него получить пароль на ночь.
– «Optima mater» (лучшая мать), – ни минуты не задумываясь, ответил император.
Глава VI
Навряд ли оказался бы во всем Риме другой человек, которому после молодого императора завидовали бы больше, чем завидовали Сенеке, воспитателю императора и первому после него лицу в империи. Философ, ритор и образцовый стилист по единогласному признанию критиков той эпохи, он, действительно, был человек бесспорно замечательно даровитый, обладавший чрезвычайно широкими познаниями и к тому же громадными богатствами. Но, к сожалению, в глазах потомства философ этот много повредил себе несчастной попыткой войти в невозможный компромисс, немало пошатнувший его репутацию, – и все-таки не спасший его. Не место было философу при безнравственном дворе римских цезарей. Трудно было оставаться на высоте учения стоиков и одновременно быть покорным исполнителем воли Нерона. Не могли не отзываться неискренностью громкие восхваления добродетели и трескучие фразы в защиту бедных и угнетенных в устах человека, находившегося в самых тесных сношениях с людьми, без совести и без стыда утопавшими в грязи всевозможных пороков, непрестанно окруженного толпой льстецов и не умевшего с должной энергией бороться с собственными поползновениями к алчности и суетливому тщеславию.
А между тем этот человек, даже замкнувшись в скромной жизни частного лица, мог бы быть так счастлив, посвятив себя исключительно одним литературным философским занятиям. Дом его был полной чашей, его сады роскошны и обширны; жена его, Паулина, была женщина любящая и кроткая; его сын, Марк, которому было предрешено погибнуть в самом расцвете юных сил насильственной смертью, был прелестный ребенок, восхищавший всех как своим счастливым веселым нравом, так и замечательными умственными способностями. Но, на свою беду Сенека имел несчастье попасть в заколдованный круг придворной жизни. Вечно опасаясь потерять расположение к себе Нерона, он постоянно принужден был, болея душой, потворствовать тому, чем возмущалась его совесть, одобрять то, что было ему ненавистно. Как ни короток был промежуток времени, прошедшего со дня кончины Клавдия, Сенека однако ж уже успел убедиться за это время, что, стараясь сдерживать Нерона, он, собственно говоря, держит за уши волка; да и со стороны многие уже начинали смотреть на него, как на впряженного в колесницу легкомысленного ученика, контролировать поступки которого делалось ему не по силам.
Однажды после полудня, задумчивый и, видимо, расстроенный, Сенека сидел в своем рабочем кабинете – просторной комнате с длинными рядами полок, на которых лежали избранные сочинения лучших авторов в свитках из тонкого пергамента и папируса, накатанных на палки из слоновой кости. Но сегодня этот даровитейший, влиятельнейший и богатейший из римских сенаторов того времени был не то встревожен тяжелым предчувствием, не то раздосадован теми намеками на свою постыдную и малодушную угодливость перед Нероном, какие в это утро ему пришлось выслушать от одного из многих своих посетителей.
В этот день к Сенеке первым явился брат его, Галлион, недавно вернувшийся из Ахаии, где занимал пост проконсула, и с которым философ долго беседовал по душем. Галлион, между прочим, рассказал один маленький эпизод, которому Сенека много смеялся. Однажды толпа кориноских евреев привела к нему на суд своего раввина, обвиняя его в единомыслии с какими-то сектантами – последователями учения одного злодея, распятого будто бы за попытки взбунтовать народ, а всего вернее, в угоду беспокойной еврейской черни, в царствование Тиверия, в эпоху прокураторства Понтия Пилата. Этого раввина звали Павлом.
– Конечно, я отклонил от себя всякое разбирательство догматов этого гнусного суеверия, – сказал Галлио.
– Так-то оно так, – заметил в раздумье Сенека, – но многим ли лучше наша мифология?