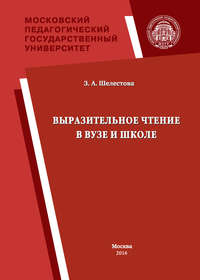полная версия
полная версияПринципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения
Выясним, что же такое выразительность устной речи и чтения [474]. По мнению Б.Н. Головина, это такие ее «особые структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателей» [107, с. 186]. Выразительность – это «точность словесного обозначения предмета или явления, представления или понятия», – считает Г.З. Апресян [13, с. 152]. По мнению Л.А. Горбушиной, «говорить выразительно – значит выбирать слова образные, вызывающие деятельность воображения, внутренние видения и эмоциональную оценку изображенной картины, события, действующего лица» [112, с. 4]. На наш взгляд, наиболее основательно с лингвистической точки зрения изучила проблему выразительности М.Р. Савова [377], которая предлагает различать выразительность текстовую и исполнительскую и считает, что выразительность – это «коммуникативное качество речи, характеризующее эффективность коммуникативно-целесообразного проявления индивидуальности автора речи с помощью различных речевых средств» [Там же, с. 7]. Как видим, ученые имеют в виду различные типы речевой выразительности. В зависимости от структурных областей языка бывает выразительность произносительная, акцентологическая, лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая, стилистическая и интонационная.
Проблема выразительности до сих пор является одной из самых актуальных в истории эстетики и художественной практики. В широком смысле слова, отмечает М.В. Логинова [86], можно говорить о выразительности не только как о категории искусства, но и как об общефилософской категории. Чем выразительнее художественный образ, тем сильнее степень воздействия искусства, в котором наиболее важным является осуществление человеческого начала. Е.Я. Басин [24] предлагает различать термины выразительность (экспрессия) и выразительное (выражение, движение, проявление). Долгое время выразительность рассматривалась исключительно как категория лингвистическая, и работа над ней была сопряжена с поисками в области формы. Работы М.М. Бахтина [26–28] открыли новый этап в понимании сущности выразительности и выразительного (онтологический аспект). Предметом философии как области гуманитарного мышления становится выразительное и говорящее бытие. Это бытие неисчерпаемо в своем смысле и значении. Точные науки представляют собой монологическую форму знания: «интеллект созерцает вещь и высказывается о ней… но субъект не может изучаться как вещь, ибо он не может стать безгласным, следовательно, познание его может быть только диалогическим» [26, с. 383]. Термин выражение М.М. Бахтин понимает «как поле встречи двух сознаний» [27, с. 230]. Он говорит о сложности «двустороннего акта познания-проникновения» [Там же, с. 227], требующего умения познавать и умения выражать, проявлять свое знание. Критерием этого знания является глубина проникновения. Эстетическое тоже всегда предполагает наличие другого сознания, к которому направлено выражение. Здесь выразительность понимается как совокупность проявлений душевной жизни Другого. Эта мысль наглядно объясняет, почему слушатель, который мог бы самостоятельно прочитать литературное произведение, идет на концерт мастера художественного чтения, чтобы узнать его другое мнение (интерпретацию) об этом произведении. Выявление глубинных смыслов произведений искусства, проявляющихся исторически, составляет гносеологический аспект понимания выразительности.
За последние десятилетия в связи с изучением речи как деятельности расширился и углубился и лингвистический аспект понимания выразительности. По мнению С.Л. Рубинштейна, «речь – это язык, функционирующий в контексте индивидуального сознания» [367, с. 382]. Она выражает эмоциональное отношение человека к тому, о чем он говорит, и к тому, к кому она обращается. «Чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам» [Там же, с. 388]. Человек говорит, чтобы воздействовать на мысль, чувство и сознание других людей. Всякая речь, по С.Л. Рубинштейну, является определенной специфической деятельностью или действием, которые исходят из тех или иных мотивов и преследуют определенную цель. Смысл или значение высказывания приобретают новый смысл: за объективным содержанием того, что сказал говорящий, выступает то, что он хотел высказать.
Выразительность речи усиливается интонацией, которая оформляет речь, помогает активизации ее коммуникативной функции. С.М. Волконский отмечал, что «голос – одежда, интонация – душа речи» [81, с. 7]. Интонация есть и в письменной речи, но речь и язык не могут быть сведены друг к другу. Конкретный смысл всякого высказывания вытекает, по мнению Н.И. Жинкина [145], не только из содержания сообщения, но и из ситуации общения. Интонация передает сведения не только о том, что говорится, но и о том, кто говорит, как, где и кому. Если на вопрос что сообщается? отвечает лингвистика, то остальные вопросы остаются за пределами лингвистических интересов, отмечает Н.Д. Светозарова [385]. Звучащий и письменный текст дополняют друг друга, и их совокупное рассмотрение многое дает для понимания и интерпретации литературного произведения.
Однако возникает вопрос, к какой форме речи относится выразительное чтение. Мы убеждены, что к устной форме речи, несмотря на то, что письменный текст в чтении передается обычно без изменения. Можно просто прочитать текст вслух, соблюдая знаки препинания, однако такое чтение не будет еще выразительным. Чтение выразительное отличается от речи говоримой только тем, что оно не создается в процессе словесной импровизации. В чтении так же, как и в устной речи, в единстве проявляются мысль, чувство и воля говорящего. Озвучивая текст, читающий выразительно не только прочитывает ту интонацию, которая вписана в него, но и выражает свое отношение к тому, о чем читает. Собственное отношение к читаемому и обусловливает различные трактовки произведения. К.С. Станиславский подчеркивал, что смысл творчества – в подтексте. «В момент творчества слова – от поэта, подтекст – от артиста. Если б было иначе, зритель не стремился бы в театр, чтобы смотреть актера, а сидел бы дома и читал пьесу» [416, с. 3, 85]. Мысль режиссера поддерживает М.К. Мамардашвили, считающий, что только в театре происходит подлинное понимание произведения: «Ты понял, в тебе произошло изменение, произошел катарсис» [286, с. 113]. И это состояние возникает только тогда, когда произведение исполняется в условиях публичного пространства средствами живого слова.
Главное правило выразительного чтения было определено еще В.И. Чернышевым: «Читай так, как говоришь» [457, с. 28]. Э. Легувэ [253] подчеркивал, что учиться читать – это лучший способ научиться говорить. Подтверждение этой мысли мы находим и у авторов современных работ (Л.И. Горбушиной, А.А. Леонтьева и др.). На трудность преодоления противоречия между устной и письменной формами речи в работе над литературным произведением указывал и Г.В. Артоболевский: «Конечная задача чтеца – передать живую, воплощенную в художественные образы эмоционально насыщенную мысль литературного произведения средствами устной звучащей речи с целью воздействия на слушателей» [15, с. 4].
Таким образом, истоки выразительности речи и чтения заключаются в том, что устное слово – слово живое. Изначально словесное искусство было только звучащим. Появление письменности превратило его в литературу и повлекло за собой обособление творчества исполнителя и писателя. Генеральная проблема речевого общения – соотношение значений и смыслов (А.Н. Леонтьев). Интонация живой речи всегда адекватна смыслу, а не значению. Слово фиксирует и воплощает мысль посредством звука, отличающегося множеством оттенков. Сущность эстетического всегда проявляется в нерасторжимом единстве трех сфер: произведение искусства; автор (или процесс), создающий предмет восприятия; и субъект, воспринимающий его (читатель, слушатель, зрителя). М.М. Бахтин [26] отмечал, что лингвистический анализ чаще всего отвлекается от авторства, так как лингвисты имеют дело с текстом, но не произведением. В процессе речевого общения передаются смысловые диалогические отношения. «Слово бездонно. Единица речевого высказывания не воспроизводима… Всякая система знаков может быть расшифрована…, но текст никогда не может быть переведен до конца» [26, с. 283]. Всякий текст имеет второго субъекта, который, воспроизводя чужой текст, создает свой, обрамляющий (оценивающий, комментирующий, возражающий) текст.
Другая особенность устной речи заключается в том, что она рассчитана на слуховое восприятие. Говорящему всегда небезразлично, кто, как и с какой целью воспринимает его речь. Отсюда и вытекает такой источник выразительности речи, как тесное общение с аудиторией. Поэтому для выразительности речи совершенно необходимо участие воли. Действенность (волевое усилие) заключена в самой природе речи. Говорящий как бы совершает речевое действие (Н.И. Жинкин), словесное действие (К.С. Станиславский). «Природа устроила так, что мы, при словесном общении с другими людьми, сначала видим внутренним взором то, о чем идет речь, а потом уже говорим о виденном», – утверждал К.С. Станиславский и советовал говорить «не столько уху, сколько глазу» [416, с. 3, 88].
Работа над выразительным чтением основывается на искренности переживаний. Чтобы чтец говорил с чувством, он должен стремиться к словесному действию. Нередко школьники, да и студенты тоже, механически проговаривают слова. Но нужно, чтобы говорящий осмысленно и целеустремленно общался со слушателями. Для этого он должен точно знать, что именно (тема) и с какой целью (идея) он хочет донести до них текст. Постановка конкретной задачи и позволяет повысить действенность речи и чтения. Активное, подлинное, продуктивное действие – самое главное в творчестве, отмечал К.С. Станиславский. «Говорить – значит действовать. Эту-то активность дает нам задача: внедрять в других свои видения. Неважно – увидит другой или нет. Об этом позаботятся матушка-природа и батюшка-подсознание. Ваше дело хотеть внедрять, а хотения порождают действия» [Там же, с. 3, 92].
Искусство чтения Е.Г. Гуренко [123] определяет как «вторичную, относительно самостоятельную художественную деятельность, творческая сторона которой проявляется в форме художественной интерпретации» [124, с. 41]. Действительно, музыкальное искусство не может обойтись без композитора, и композитор нуждается в инструменталистах и певцах. В связи с тем, что искусство чтения приобрело свою самостоятельность в результате длительного процесса трансформации устного народного творчества в письменную литературу, авторский стиль многих произведений порой никаким другим искусством, кроме искусства чтения, выраженным просто быть не может. Например, описание гоголевской степи.
Искусство художественного чтения так же, как и театральное, – искусство исполнительское, в основе которого лежит литературное произведение. Однако в каждом из этих искусств воплощение осуществляется разными выразительными средствами. В театре пьеса разыгрывается коллективом актеров, в искусстве же чтения исполнителем является один человек. В театре каждый актер играет одну роль, а чтец воплощает всю систему образов. Актер перевоплощается в образ персонажа, действует от его лица, живет его жизнью. Чтец не перевоплощается в образы героев, он рассказывает о том, как они живут и действуют, что они говорят, думают, чувствуют. Выявляя свое отношение к героям и событиям, происходящими с ними, чтец рассказывает так, как будто сам был свидетелем всего изображенного автором. При этом он вызывает в воображении слушателей не только образы персонажей, но и окружающую их обстановку, быт, условия жизни и т. д.
У актера два выразительных средства – словесное и физическое действие, у чтеца одно – словесное, но оно сложнее, чем у актера. Актер общается с партнерами, а чтец – со слушателями. Именно поэтому, когда выступает чтец, свет в зале всегда горит: исполнитель должен видеть реакцию слушателей на то, о чем он рассказывает. Кроме того, актер живет на сцене в настоящем времени, чтец – в прошедшем, он всегда знает, чем закончится рассказ, и это помогает ему заинтересовать слушателей. Почему же тогда основные положения системы К.С. Станиславского определяют всю работу над выразительностью речи и чтения? Дело в том, что если актер играет разные роли, то чтец тоже играет, но всегда одну и ту же роль – роль рассказчика, опираясь при этом на искусство переживания, теоретически обоснованное законами физиологии и психологии речи как явления.
Проблема образа рассказчика – кардинальная проблема чтецкого искусства. Чтобы верно прочитать произведение, исполнитель должен что-то изменить в себе, независимо от своего внешнего облика; должен найти в себе какие-то черты характера, манеру мыслить и говорить так, чтобы по возможности не нарушать, а, может быть, сделать более ярким представление об образе повествователя, возникающее при чтении глазами. Исполнитель литературного произведения, сохраняя свой внешний облик, не может всегда оставаться самим собой. Процесс перевоплощения – то общее, что сближает чтецкое искусство с актерским. Но если актер, перевоплощаясь в образ, должен создать на сцене иллюзию сиюминутной жизни, его герой действует так, как будто не знает, что произойдет с ним в следующую секунду, то чтец, начиная рассказ, должен знать все детали его развития и завершения. Переживаю событие сейчас или рассказываю о событии, которое уже пережито, – вот «водораздел, качественно отделяющий работу драматического актера от работы чтеца в момент исполнения», отмечает Я.М. Смоленский [402, с. 21].
Для того чтобы создать образ автора-повествователя, чтец должен стать, по выражению А.Я. Закушняка [152], как бы вторым автором, пройти путь, по которому шел автор, создавая свое произведение, но только лишь обратный. Если писатель порою мучительно ищет слово, которое помогло бы ему как можно точнее и ярче нарисовать возникшую в его воображении картину, то чтец, наоборот, должен оживить эту картину, озвучить текст автора. Он должен перевести его из письменной формы речи в устную, используя все средства интонационной выразительности. А.Я. Закушняк придавал литературным произведениям устность, освобождая речь от сложной конструкции литературной фразы, выбрасывая все, что могло быть восполнено жестом, мимикой, интонацией. С.А. Кочарян [226] пытался разработать законы, по которым чтец переводит литературные произведения из письменной формы речи в устную, не нарушая при этом, а, наоборот, усиливая звучание авторской интонации. На необходимость такой работы указывал и Д.Н. Журавлев: «До сих пор я испытываю чувство неудовлетворенности от того, что не могу до конца произведения Л. Толстого перевести в абсолютно живую речь» [149, с. 217]. Как видим, мастера художественного слова однозначно решали вопрос о том, к какой форме речи относится художественное, а, следовательно, и выразительное чтение.
Литературный материал предстает перед исполнителем, прежде всего, как языковая действительность, как организованная система знаков. Авторская интонация хотя и допускает смысловые различия, но все же в пределах, заданных языковой структурой текста. Именно поэтому мысль о бережном отношении к авторскому тексту – закон для каждого мастера художественного слова. Д.Н. Журавлев говорил: «Те, кто, как и я, пытаются переводить литературное произведение из читаемого в звучащее, слышимое, должны делать это, сохраняя первооснову, авторский подлинник. И чем ближе рассказчик к автору, тем точнее улавливает он авторский голос» [Там же, с. 217]. Чтец играет роль посредника между автором и слушателями. Стремясь передать как можно полнее и точнее интонацию, заданную автором, он в то же время делает это по-своему. К тому же, если бы можно было раз и навсегда установить модель интонации того или иного автора, его произведение перестало бы нас интересовать. Но искусство вариантно по своей природе, и произведение продолжает жить независимо от его создателя, а каждое поколение находит в истинно художественном произведении порой то, чему удивился бы сам его творец.
Ученица К.С. Станиславского М.О. Кнебель [202] вспоминает, как он давал этюды на рассказ в предлагаемых обстоятельствах. Режиссер никогда не отделял проблемы слова в художественном чтении от словесного действия в спектакле. Он ясно видел, что в том и другом случае существует своя специфика. Но ему в первую очередь важно было подчеркнуть общие основы словесного действия. По своей форме художественное чтение – репродуктивная деятельность. Казалось бы, оно имеет весьма отдаленное отношение к творчеству, в процессе которого создается что-то новое. Получается, что творческая деятельность – это прерогатива только автора. Это действительно справедливо, но только применительно к статическим видам искусства (скульптура, живопись, графика). В динамических же видах искусства, т. е. протекающих во времени (музыка, театр, художественное чтение), бывает, что продукт первичной деятельности (текст) уступает исполнительной деятельности в конкретности воплощения.
Живая реакция слушателей на чтение также оказывает неоценимую услугу чтецу – или вдохновляет его, награждая за труд, или озадачивает, отвергая неудавшуюся их ошибочную трактовку и тем самым подсказывая направление последующей доработки исполнителя. Учитывая особенности той или иной аудитории, чтец уточняет свои исполнительские задачи, порой в корне их меняет. Показательной в этом отношении является работа Д.Н. Журавлева над рассказом А.П. Чехова «О любви» [291]. Чтец много лет использовал один из эпизодов рассказа как легкий, не очень внимательный светский разговор красивой и счастливой женщины со случайным знакомым. После многих концертов Журавлев понял, что неверно увидел своих героев и потому не понял смысла их разговора. Герои не стоят и не ходят, они сидят рядом и не могут оторвать взглядов.
Алехин вдруг понимает, что Анна Алексеевна единственный человек на свете, которому небезразлична его жизнь, который его понимает.
Этот пример свидетельствует о неисчерпаемости работы чтеца над произведением и о том, какую важную роль в постижении его глубины играет искусство чтения. Чтобы оказать воздействие на слушателей, чтец должен, работая над произведением, пройти по определенному лабиринту, разгадать загадки, рассыпанные автором по тексту, чтобы верно оценить его. Для понимания подлинного смысла произведения чтецу необходимы языковые и фоновые знания, которые связываются с понятиями горизонтального (обеспечивает понимание значений слов) и вертикального (указывает на связь текста с другими источниками) контекстов. Не менее важно чтецу проникнуть в подтекст произведения (его внутренний смысл) [394], а также в надтекст (в то понимание, на которое рассчитывает автор), и в интертекст, предполагающий умение сопоставлять произведение с другими текстами.
2.2. Исполнительский анализ как метод подготовки к чтению произведения и способ его художественной интерпретации
Толкование литературного произведения происходит с помощью определенных методических приемов. Л.А. Новиков [310] предлагает общий план работы с текстом: кодирование в процессе его написания и декодирование в процессе его изучения с помощью двух взаимосвязанных друг с другом операций – анализа и синтеза. Подготовка к воплощению литературного произведения в звучащее слово требует применения особого способа работы. Этим способом является исполнительский анализ. Его назначение – творческое освоение литературного произведения, определение путей преобразования письменного текста в полнокровную устную речь с целью создания его художественной интерпретации. Содержание, формы и приемы исполнительского анализа обусловлены особенностями выбранного произведения (его родом, жанром, объемом) и степенью подготовки чтеца к его усвоению (уровнем его эстетического и литературного развития).
Цель исполнительского анализа – содействовать созданию произведения искусства художественного чтения. Литературное произведение, отмечает Н.М. Соловьёва, оказываясь предметом исполнительского анализа, «существует не само по себе, а в восприятии чтеца, восприятие его проверяется объективно существующим текстом, но само произведение в передаче чтеца получает новую жизнь и новый смысл» [89, с. 19].
С философской точки зрения, интерпретировать – «значит ставить между читателем и оригинальным текстом… текст интерпретатора» [434, с. 214]. По мнению П.Д. Тищенко, интерпретатор играет роль дублера оригинала, которую метафорически можно определить как линза и лазер. Линза помогает делать смысл яснее и отчетливее. С помощью лазера изображение становится «продуктом сложной интерференции энергетического смыслового пучка лазера с языковой средой оригинального текста» [Там же]. Задача интерпретатора – истолковать оригинал, «значит определить, т. е. выставить, указать предел, в границах которого существует то, о чем идет речь», – дополняет Л.П. Киященко [199, с. 113]. Встает вопрос, что нового в произведении литературы открывает его исполнение перед аудиторией, если каждому можно самому прочесть книгу. «Присутствие других при моём восприятии, – отвечает на вопрос Ю.Н. Давыдов, – не только не нарушает моего переживания увиденного, но, наоборот, усиливает его» [125, с. 80]. Речь идёт о восприятии, существенно отличном от читательского. Зрелище радует зрителя, потому что «его индивидуальное переживание тождественно переживанию всех присутствующих при том же зрелище» [Там же, с. 80].
Проблема интерпретации особенно интересует исследователей методики обучения студентов иностранным языкам. Так, В.А. Кухаренко [247] считает, что материальная первооснова любой интерпретации – текст, в котором заложены все сигналы (логические, эмоциональные, оценочные, эстетические), помогающие наиболее адекватно раскрыть авторский замысел. К.А. Долинин [131] призывает в интерпретации раскрывать авторское миросозерцание, которое является коммуникативным содержанием художественного текста. Это содержание раскрывается через анализ образа повествователя как организующего принципа отбора материала. При этом важно различать интерпретацию и понимание. Н.Д. Арутюнова [16], на наш взгляд, метко охарактеризовала это различие: пониманию подлежит отношение говорящего к объекту, а интерпретации – «квалификация этого объекта в аксиологическом суждении» [Там же, с. 185]. В этическом аспекте интерпретация призвана ответить на вопрос, что есть благо (что значит хорошо или почему это плохо?), а в эстетическом аспекте – что есть красота. По мнению А.Е. Бочкарева [50], независимо от объекта интерпретации проблема остается неизменной – что и как следует понимать? Неизменными остаются и герменевтические установки: понимание – истолкование – применение. Однако, для чтеца важнее, на наш взгляд, не столько работа по созданию интерпретации, сколько живое общение с публикой в момент воплощения этой интерпретации на сцене. Искусство художественного чтения базируется на трансдисциплинарном подходе, который, по мнению Л.П. Киященко, «сочетает в себе традиционные формы дисциплинарного научного знания с широким спектром знаний обыденного, коммуникативного, личностного и иного вида социального опыта» [200, с. 60]. Опытом универсального знания о тексте писателя и стремится поделиться исполнитель со своими слушателями. Однако, отмечает Л.П. Киященко, попытка схватить смысл с помощью языка почти всегда оборачивается неудачей. «В схваченном узнается только язык. Предметность, прячущаяся за словом, ускользает» [199, с. 197].
Первая задача чтеца в процессе исполнительского анализа – понять текст. Для этого он должен разобраться в стиле писателя, в котором оценка авторского мира находит выражение в структуре образа рассказчика как носителя эстетического сознания творца произведения. Образ автора высвечивается в иерархии: реальный автор – субъект повествования (непосредственный автор) и образ автора, который творится читателем в его восприятии. Этот образ, считает Н.С. Валгина [65], двунаправлен: он результат сотворчества автора и читателя. Образ автора – «это выражение личности писателя в его творении…, центр, фокус, в котором скрещиваются все стилистические приемы произведения» [74, с. 154]. Когда в него проникает исполнитель, этот образ подвергается деформации. В тексте заложены все сигналы, которые помогают адекватно раскрыть авторский замысел. Задача читателя – понять произведение, а автора-рассказчика – интерпретировать его.
Эстетическая информация, по мнению М.П. Брандес [52], носит двоякий характер: объективный и субъективный. Разница между действительностью, заключенной в тексте, и эстетическим отношением к ней состоит в том, что «в познавательном отражении на первом месте стоит объект, а в отношении – реакция субъекта на объект» [Там же, с. 126]. Реальный автор (писатель) выступает в качестве субъекта произведения. Продукт его субъективации – единство знания и оценки. Автор-повествователь действует «в качестве познающего и оценивающего субъекта и как деятель, который осуществляет идеальную объективацию» [Там же, с. 83]. В художественном произведении проблема автора неотделима от языкового выражения, а образ автора – «от формы словесного построения», по словам В.В. Виноградова [74, с. 189]. Этот образ выполняет роль организующего принципа отбора материала.