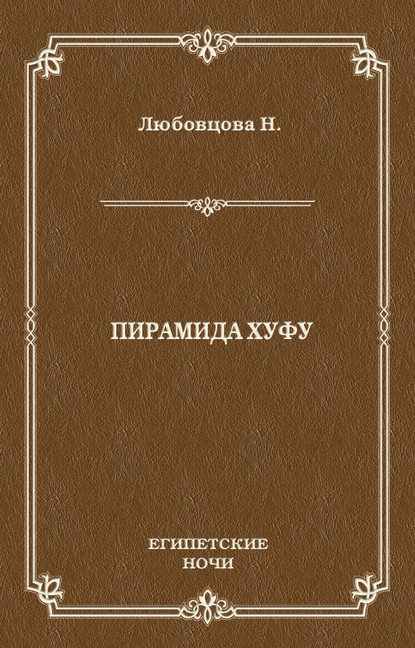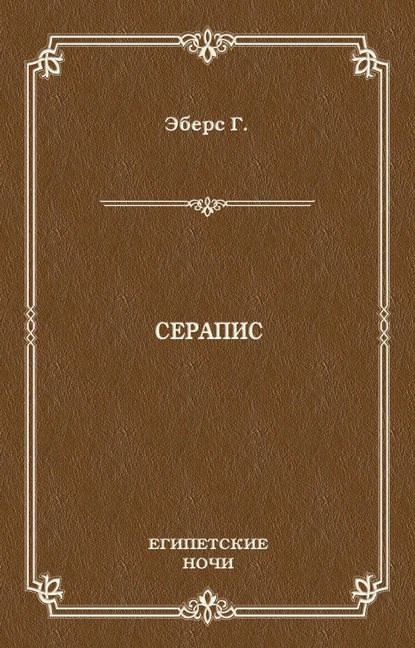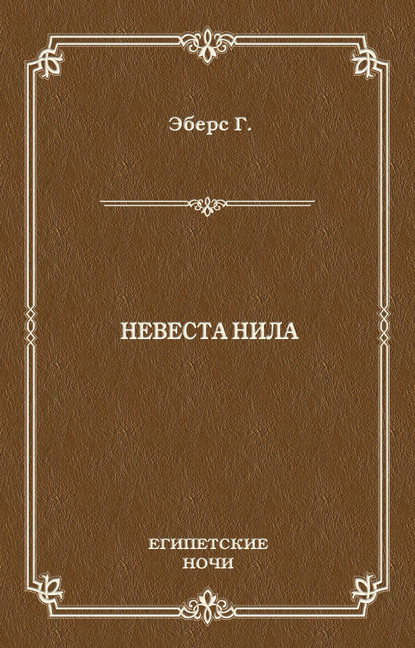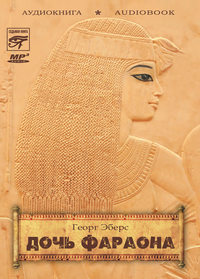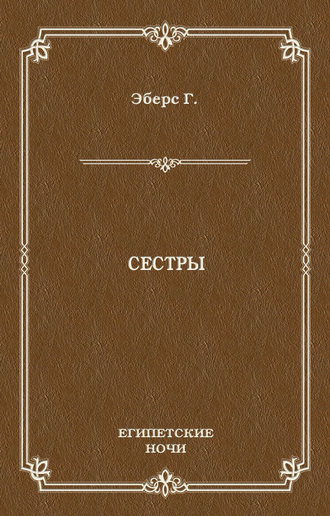
Полная версия
Сестры
Пять лет тому назад, когда сестры пришли в храм, Ирена очень боялась этого широкоплечего человека, ростом с карлика. На лице его было столько складок, что оно походило на пробку, в ногах у него угнездилась какая-то мучительная болезнь, которая часто не позволяла ему ходить. Его забавлял страх Ирены, и всегда, когда он встречал эту девочку, которой в то время не было еще одиннадцати лет, он вытягивал губы к красному носу и страшно хрюкал, чтобы напугать ее еще больше.
Он не был зол, однако у него не было ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев, ни друзей, а каждый из нас так живо желает внушить другому существу хоть какое-нибудь чувство, и многие предпочтут лучше наводить страх, чем остаться незамеченными.
Кратес считался нелюдимым и самым строгим из всех служителей храма, но Ирена давно уже не боялась его и даже просила иногда Кратеса, со свойственной ей чарующей лаской, сделать опять страшное лицо. Старик смеялся и исполнял ее желание, а она, к обоюдному удовольствию, со страхом убегала. Когда Ирена, повредив себе ногу, не выходила несколько дней из дому, случилось неслыханное дело: Кратес с участием расспрашивал Клеа, что случилось с сестрой, и дал для Ирены пирожок.
За все время, пока Кратес работал, не было произнесено ни одного слова между ним и верховным жрецом. Но вот старик отбросил молот и сказал:
– Я неохотно занимаюсь делами подобного рода, но это мне, кажется, удалось. Теперь всякий прислужник храма, спрятавшись за жертвенником, может зажигать и тушить светильники, так что даже самый большой умник не заподозрит обмана. Стань за дверью большого зала и скажи слово!
Клеа слышала, как верховный жрец заговорил нараспев:
– Повелит он ночи – и она становится днем; прикажет погасшему светильнику – и он ярко горит. Если ты присутствуешь здесь, Серапис, явись нам!
Яркий луч света вырвался в это мгновение из санкториума и моментально погас, когда верховный жрец запел:
– Так ярким светом озаряешь ты детям своим истину и мраком наказываешь их за ложь.
– Еще раз? – спросил Кратес таким тоном, который ясно говорил, что ему не хотелось повторения.
– Я должен просить тебя только об одном, – отвечал верховный жрец, – чтобы на этот раз игра эта нам удалась лучше, чем раньше. Я всегда был уверен в твоем искусстве, но подумай, о чем теперь идет дело. Оба царя и царица, вероятно, будут присутствовать на торжестве. Филометр и Клеопатра будут во всяком случае, а им трудно отвести глаза. Кроме того, их будет сопровождать римлянин, уже четвертый раз принимающий участие в процессии. Если я верно его понял, он, как и большинство знатных римлян, принадлежит к тем людям, которые больше всего рассчитывают на самих себя. Если нужно, они довольствуются старыми богами их отцов, и все чудеса, которые мы им показываем, они не принимают на веру, а все размеряют и взвешивают своим трезвым умом. Люди такого сорта, которые не стыдятся молиться, не философствуют, а заботятся только о том, чтобы правильно поступать, – самые опасные противники всего сверхъестественного.
– А естествоиспытатели в Мусейоне? – спросил Кратес. – Они признают только то, что могут видеть и наблюдать лично.
– Потому-то их так легко провести с помощью твоего искусства, – возразил верховный жрец, – здесь они видят действие без причины, а невидимые причины они склонны относить к сверхъестественным. Открой теперь двери, выйдем на воздух через боковую дверцу. Прошу тебя, возьмись на этот раз сам помогать Серапису! Подумай, ведь Филометр только тогда утвердит за нами пахотное поле, если покинет храм, глубоко потрясенный величием нашего бога. Можно будет ко дню рождения царя Эвергета, который должен праздноваться в Мемфисе, устроить новое чудо!
– Посмотрим, – отвечал Кратес. – Сперва я должен собрать замок для больших ворот гробниц Аписа; он у меня так давно лежит в мастерской, что всякий может открыть ворота, просунув гвоздь в дырку под задвижкой, и закрыть, толкнув железный болт. Пошли за мной, перед тем как начнут показывать молнии. Несмотря на мои убогие ноги, я приду. Уж раз я взялся за такое дело, надо самому и довести его до конца, но я хотел бы думать, что и без подобных обманов…
– Мы не обманываем, – строго перебил своего помощника верховный жрец, – мы только показываем близоруким детям земли могущество божества в форме видимой им и понятной.
С этими словами он повернулся спиной к Кратесу и через боковую дверь покинул зал. Кратес открыл бронзовые двери и, складывая свои инструменты, сказал самому себе так громко, что Клеа ясно слышала из своего убежища:
– Мне все равно, но обман есть обман; только бог может обмануть царя или ребенок – нищего.
«Обман есть обман», – повторила Клеа, выходя из своего угла, после того как кузнец ушел из храма.
Она остановилась в большом зале и осмотрелась вокруг.
В первый раз она заметила вылинявшие краски на стенах, повреждения, которые время наложило на колонны, и стертые плиты пола.
Приторно сладким показался ей запах фимиама. Проходя мимо одного старца, в молитвенном усердии поднявшего руки, она взглянула на него с сожалением.
Пройдя пилоны, замыкавшие собственно святилище, она обернулась и, пораженная, покачала головой. Ни один камень в храме Сераписа не изменился с тех пор, как она час тому назад вошла в него, и тем не менее храм показался ей совсем другим и чуждым, точно ландшафт, который мы привыкли видеть во всей прелести весны, мы вдруг увидели зимой с обнаженными деревьями.
Когда Клеа услышала слова жреца-кузнеца: «Обман есть обман», она почувствовала острую боль в груди и не могла сдержать слез, наполнивших ее непривычные плакать глаза; когда ее собственные уста повторили жестокий приговор Кратеса, слезы ее высохли и, взволнованная, она смотрела на храм так, как смотрит путешественник, прощающийся со своим любимым другом, потом вздохнула легче, выпрямилась и гордо отвернулась от святилища Сераписа. Но на сердце у нее было тяжело.
У жилища привратника навстречу ей попался ребенок. Подняв ручки, он шел к ней колеблющимися шагами.
Клеа подняла его, нежно целуя, и попросила у жены привратника кусок хлеба. Голод начинал ее сильно мучить. Пока она ела сухой хлеб, ребенок взобрался к ней на колени и большими глазами следил за движениями ее рта и рук.
Это был мальчик лет пяти с такими слабыми ножками, что они едва могли носить его маленькое тело, но с прелестным личиком. Обыкновенно оно казалось безжизненным, но, когда маленький Фило завидел молодую девушку, глазки его радостно заблестели.
– Возьми это молоко, – сказала привратница, подавая Клеа глиняную чашку. – Его очень мало, и я не могла бы тебе его предложить, если бы Фило ел так же, как другие дети. Но он пьет две капли, точно ему больно глотать, съест кусочек и больше ничего не берет, если даже его бьют.
– Но ты его не бьешь больше? – спросила с упреком Клеа и прижала к себе ребенка.
– Мой муж… – отвечала женщина, смущенно перебирая свое платье. – Ребенок родился в хороший день и час, а до сих пор остается слабым и не умеет говорить, и это сердит Пианхи.
– Он опять все испортит! – невольно вскрикнула девушка. – Где он?
– Его позвали в храм.
– Разве вас не радует, что Фило называет его отцом, тебя матерью, а меня зовет по имени и многое уже понимает? – спросила Клеа.
– О, конечно, – согласилась женщина. – Он уже говорит, потому что ты учишь его говорить, и мы тебе очень благодарны.
– Благодарности я не требую, – перебила ее девушка, – я требую, чтобы вы не бранили и не наказывали мальчика, а радовались вместе со мной. Ведь вы сами видите, как мало-помалу просыпается его бедный дремлющий ум. Если все так пойдет и дальше, то милая крошка станет совсем разумным и понятливым ребенком. Как зовут меня, милый?
– Ке-еа, – ответил малютка и улыбнулся своему другу.
– Ну, теперь попробуй назвать то, что у меня в руках. Что это? Я вижу, что ты знаешь. Как это называется? Скажи мне на ушко. Да, да, верно, мо-мол-молоко, верно, милый, это молоко. Ну, подними свою мордочку и хорошенько повторяй за мной, ну, еще раз, еще опять, когда ты верно скажешь это слово двенадцать раз, я тебя поцелую. Ну, ты заслужил, где тебя целовать? И здесь, и вот здесь. А это что? Твое у… Твое ухо! Да, верно, а это твой нос!
Взор ребенка становился все яснее и яснее при этом ласковом обучении, и ни маленький ученик, ни Клеа не чувствовали себя утомленными, когда, спустя час, раздавшийся удар по металлу прервал их занятия.
Когда молодая девушка хотела уйти, мальчик с плачем прижался к ней, она взяла его на руки и отнесла к матери, потом поспешила домой, чтобы одеть сестру и одеться самой для процессии. По дороге к пастофориуму она опять думала о сегодняшнем посещении храма и о своей молитве.
«Перед святилищем, – сказала она себе, – мне не удалось освободить свою душу от того, что ее смущало, и удалось тогда, когда я учила говорить бедного ребенка. Значит, боги могут выбирать для себя святилищем любое непорочное место, а душа ребенка разве не чище жертвенника, перед которым поругана правда?»
На пороге дома ее встретила Ирена. Она уже убрала волосы, украсила их гранатовыми цветами и спросила сестру, как та ее находит.
– Ты похожа на саму Афродиту[16], – сказала та, целуя ее в лоб.
Поправив складки одежды сестры и прикрепив украшения, Клеа начала одеваться сама. Когда она завязывала сандалии, Ирена ее спросила:
– Отчего ты так горько вздыхаешь?
Клеа отвечала:
– Мне кажется, что сегодня во второй раз я лишилась родителей.
V
Церемония кончилась.
После службы в греческом серапеуме, на которой присутствовал Птолемей Филометр, он утвердил за жрецами не целое поле, как они просили, а только небольшую часть.
Когда двор отправился в Мемфис и процессию распустили, сестры возвращались домой. Ирена – улыбающаяся, с пылающими щеками, Клеа – с мрачным, почти грозным блеском в глазах.
Не говоря ни слова, подходили они к своему жилищу. В это время храмовый служитель окликнул старшую сестру и потребовал, чтобы она следовала за ним, так как верховный жрец желает с ней говорить.
Молча передала Клеа сестре свой кувшин и последовала за служителем. Ее привели в помещение храма, где хранилась священная утварь. В ожидании жреца Клеа опустилась на сиденье.
Мужчины, которые утром заходили в пастофориум, следовали за процессией с царской фамилией.
После того как кончилось торжество, римлянин Публий отделился от своих спутников и быстро пошел, не прощаясь и ни на кого не смотря, к пастофориуму, к келье отшельника Серапиона.
Старик еще издали узнал юношу, твердая и гордая походка которого сильно отличалась от неспешных шагов жрецов Сераписа, и дружески его приветствовал.
Публий, холодно и серьезно его поблагодарив, горько и резко сказал:
– Время мое ограничено. Я скоро собираюсь покинуть Мемфис. Но так как я обещал выслушать твою просьбу, то, чтобы сдержать свое слово, я пришел к тебе. До твоих девушек, о которых ты мне хочешь говорить, мне нет никакого дела. Я столько же ими интересуюсь, как этими ласточками, пролетающими над домом.
– Однако сегодня утром ради Клеа ты предпринял большую прогулку, – возразил Серапион.
– Чтобы подстрелить зайца, я ходил гораздо дальше, – отвечал римлянин. – Мы, мужчины, преследуем дичь не из-за обладания ею, а потому, что нас увлекает охота, но встречаются также женщины с наклонностями охотника. Вместо копья и стрелы они посылают пылкие взгляды, а когда они уверены, что попали в цель, оставляют дичь в покое. В таком же роде твоя Клеа, а хорошенькая малютка, приходившая сегодня утром, смотрит так, будто не прочь, чтобы за ней поохотились; мне одинаково не нравится быть ни дичью, ни охотником за девицами. Дела в Мемфисе у меня займут еще три дня, а потом я покину эту нелепую страну навсегда.
– Сегодня утром, – промолвил Серапион, начавший понимать, что возбудило такую неприязнь, сквозившую в словах римлянина, – сегодня утром ты, кажется, так не спешил с отъездом, как сейчас; ты теперь похож на улетающую дичь. Я знаю Клеа лучше, чем ты. Охота не ее дело, тем не менее еще позволит она охотиться за собой, потому что она обладает одним сильно развитым в ней качеством, которое ты, Публий Сципион, предпочитаешь всем другим: она горда, непомерно горда и имеет на это право. Напрасно ты смотришь так презрительно, ты хочешь сказать: чем может гордиться какая-то бедная девушка, исполняющая низшие должности при храме, когда гордиться имеют право только те, которые высоко поднимаются над толпой? Но поверь мне, что эта девушка имеет много причин держать голову высоко, не потому только, что она происходит от свободных и благородных родителей, не потому, что она редкостная красавица и что, будучи еще совсем ребенком, она ухаживала за своей младшей сестрой, как заботливая мать, а особенно потому – и это, насколько я тебя понимаю, ты лучше оценишь, чем другие юноши, – что она, несмотря на свое положение, никогда не забывает, что она свободная и благородная женщина. Клеа горда, потому что она должна быть горда, и, когда ты узнаешь, в чем дело, ты не будешь гневаться на молодую девушку за то, что, вероятно, она на тебя приветливо смотрела. Боги тебя так создали, что ты можешь нравиться каждой женщине, но Клеа должна отказаться от твоих исканий, она слишком высоко себя ценит, чтобы допустить играть собой даже одному из Корнелиев, но в то же время она не может рассчитывать сделаться твоей женой. Что она тебя оскорбила, в этом нет сомнения. Отчего она это сделала? Я думаю, из гордости. Женщина похожа на воина, который тогда надевает латы, когда видит опасного противника.
Последние слова отшельник скорее прошептал, чем проговорил, и замолчал, отирая пот со лба. Всегда, когда что-нибудь его волновало, голос его звучал как труба и ему стоило больших усилий говорить тихо.
Сперва Публий смотрел Серапиону прямо в глаза, но потом, опустив глаза в землю, слушал его, не прерывая, до конца. Краска стыда залила его лицо, как у школьника, но все же он был сильный человек, всегда умевший выходить с достоинством из трудного положения. Во всех своих действиях он твердо знал, чего желает, и неуклонно поступал так, как ему казалось справедливым и полезным.
Слушая речи отшельника, Публий задал себе вопрос, чего, собственно, он желает от девушки, и, не в состоянии четко ответить себе на это, он чувствовал себя неуверенно. Эта неуверенность и недовольство собой возрастали тем сильнее, чем убедительнее казались ему слова отшельника и чем менее в глубине души он был склонен поддаваться своему увлечению. Но против своей воли он думал о ней в продолжение многих дней, и все привлекательнее и желаннее она становилась по мере того, как говорил старик.
– Может быть, ты прав, – тихо ответил юноша после краткого молчания. – Ты знаешь эту девушку лучше, чем я. Если ты обрисовал ее верно, то самое лучшее, если я настою на своем решении покинуть Египет или, говоря откровенно, убегу от твоей любимицы. Здесь мне предстоит поражение или победа, которая принесет мне позднее раскаяние. Сегодня Клеа так избегала моего взгляда, точно глаза мои были жалом змеи. Я вижу, что у нас с ней нет ничего общего; но я бы желал знать, как она попала в этот храм, и если я могу быть ей полезен, то хочу помочь – ради тебя. Теперь расскажи мне, что ты знаешь и чего ждешь от меня?
Отшельник одобрительно кивнул Публию и сделал ему знак подойти ближе, и, почти касаясь губами уха наклонившегося римлянина, он тихо спросил:
– Царица относится к тебе благосклонно?
Получив утвердительный ответ и выразив свое удовольствие одобрительным восклицанием, Серапион начал свой рассказ:
– Сегодня утром я тебе сообщил, каким образом я попал в эту клетку и что мой отец был заведующим житницами храма. В то время, когда я был на чужбине, отец был отрешен от должности и умер бы в тюрьме, если бы один смелый человек не помог ему спасти честь и свободу. Все это к делу не относится, но этот человек был отцом Клеа и Ирены; враг же, через которого должен был пострадать невинный, был этот разбойник Эвлеус. Ты знаешь или, вероятно, не знаешь того, что жрецы несут перед царем известные повинности. Ты знаешь это? Теперь, конечно, вы, римляне, больше интересуетесь делами правления и суда, чем развитием искусств и мысли. Моему отцу надлежало выплачивать эти подати, а евнуху их принимать, но откормленный безбородый хорек-обжора проглотил половину доставленного, и, когда счетчики заметили, что в сокровищнице царя пусто и нет ни тканей, ни зерен, они подняли шум, который, конечно, раньше дошел до ушей вора, живущего при дворе, чем достиг слуха моего бедного отца. Ты назвал Египет страной чудес или как-то в этом роде, это тоже верно, не ради только этих пшеничных пирогов, которые вы называете пирамидами, потому что здесь могут происходить вещи, которые у вас в Риме так же немыслимы, как лунный свет в полдень или конь с хвостом на носу! Ранее, чем пришла жалоба на Эвлеуса, он обвинил моего отца в растрате, и раньше, чем эпистат[17] округа и заседатели просмотрели акты, решение над неправильно обвиненным было уже составлено; евнух купил их приговор так же, как покупают рыбу или кочан капусты на базаре.
В древние времена богиню справедливости изображали с закрытыми глазами, а теперь она смотрит на мир как косая: одним глазом на царя, другим – на золото в руках истца или обвиненного. Естественно, что мой несчастный отец был осужден, и в тюрьме он уже отчаялся в справедливости богов, когда вдруг случилось великое чудо, что иногда бывает в диковинной стране, с тех пор как греки господствуют в Александрии. Один честный человек не убоялся, взял на себя проигранное дело бедного осужденного и не успокоился до тех пор, пока не выиграл процесса и не вернул отцу чести и свободы. Но заключение, стыд, обида подточили силы оскорбленного человека, как древесный червь точит ствол кедра, и отец зачах и умер.
Его спасителю, отцу Клеа, в награду за его смелый поступок пришлось еще хуже, чем моему отцу, потому что у нас на Ниле добродетель так же преследуется, как у вас порок. Где царствует несправедливость, там происходят ужасные вещи. Можно подумать, что боги переходят на сторону злых. Кого не страшит наказание в вечности, если он не глупец и не философ, что почти одно и то же, тот избегает праведной жизни.
Отец этих девушек, Филотас, родом из Сиракуз, был последователем учения Зенона[18]. В Риме ведь тоже есть много последователей этого учения. На службе он занимал высокий пост, он был начальником хрематистов[19], это собрание судей; кроме Египта, подобного учреждения нет почти нигде, и на деле оно оказалось самым лучшим из всех ему подобных. Оно странствует из округа в округ и поселяется в главных городах, чтобы решать дела. Если на решение судилища известного местечка, которым управляет эпистат округа, последует протест, тогда это дело перерешается еще раз хрематистами, которые не должны знать ни обвиняемого, ни жалобщика, и, таким образом, жители провинции избавлены от путешествия в Александрию или, с тех пор как царство разделилось, в Мемфис, в верховный суд, где и без того много дел.
Между всеми главами хрематистов ни один не пользовался такой славой, как Филотас, отец Клеа и Ирены. Подкуп не смел прикоснуться к нему, как воробей к соколу. Он был так же умен, как справедлив. Глубокий знаток не только египетских, но и греческих законов, он был грозой продажных судей, и нередко они из одного страха перед его именем выносили справедливый приговор.
Клеопатра, вдова Эпифана[20], когда была еще опекуншей своих сыновей, Филометра и Эвергета, царствующих теперь в Мемфисе и Александрии, высоко ценила Филотаса и приняла его в число родственников царя. Вскоре после ее смерти этот смелый человек взялся за дело моего отца и освободил его из темницы.
Разбойник Эвлеус и его сообщник Лепей[21] к тому времени оказались на вершине могущества. Пользуясь молодостью и неопытностью царя, они полностью забрали его в свои руки, и он слушался их, как ребенок.
Отец мой был честный человек, но евнух мог быть только негодяем, и, когда хрематисты с угрозами требовали от него, чтобы он явился на суд, он затеял войну из-за Сирии против Антиоха.
Ты знаешь, как позорно для нас кончилась эта война. Брат Филометра, Эвергет, был посажен царем в Александрии, Мемфисом завладел сам Антиох. Филометру он оставил престол, но держал его в полном подчинении.
Впоследствии, когда Филометр, благодаря вам, римлянам, был освобожден от опеки сирийского царя и управлял Мемфисом уже самостоятельно, Эвлеус обвинил отца этих девушек в том, что он передался Антиоху при взятии Мемфиса, и не успокоился до тех пор, пока невинного человека не лишили всех его богатых имений и не сослали вместе с женой в эфиопские золотоносные рудники. Когда все это происходило, я уже сидел в этой клетке, но все узнал через моего брата Главка, начальника дворцовой стражи. Он всегда все знает раньше других, и потому мне удалось тайно привести этих девушек сюда, в храм, и тем избавить их от ужасной участи родителей. С тех пор прошло пять лет. Теперь тебе ясно, почему дочери благородного человека должны носить воду для жертвенника Сераписа? Что же касается меня, то скорей я позволю обидеть себя, чем их, а Эвлеусу я охотно поднес бы вместо сладких персиков ядовитый корень!
– И до сего дня Филотас все еще на каторжных работах? – спросил римлянин, в ярости стиснув зубы.
– Да, все там же, – ответил отшельник. – Это «да» говорится легко, но невольно сжимаются кулаки, и страшно подумать о тех мучениях, на которые обречены такие люди, как Филотас и невинная страдалица, его жена. А как хороша она была! Как Гера[22] и Афродита вместе! И они должны теперь изнемогать на тяжкой работе под жгучим солнцем и бичом смотрителя! Счастливы они, если не перенесли мучений и оставили детей сиротами! Бедняжки! Кроме верховного жреца, никто здесь не знает, кто они. Если бы только евнух узнал это, он сейчас послал бы их туда же – или я не Серапион.
– Пусть попробует! – вскричал Публий, с угрозой протягивая руку.
– Тише, тише, мой друг, – попросил старик, – только не теперь, особенно если ты хочешь сделать что-нибудь для сестер. У евнуха, кроме своих, еще тысяча посторонних ушей, и почти все, что происходит при дворе, проходит через его руки как придворного писца. Ты говорил, что царица милостива к тебе. Это очень важно, потому что супруг ее должен делать все, что захочет она, а если царицы похожи на всех других женщин, которых я знаю, то Эвлеус не может особенно нравиться Клеопатре.
– О, если бы только я мог его поймать, – перебил Публий с пылающим от гнева лицом, – такой человек, как Филотас, не должен погибнуть, и отныне его дело станет моим собственным! Вот тебе моя рука, и если я горжусь благородными предками, то главным образом потому, что обещание Корнелиев – то же, что сделанное дело.
Отшельник крепко потряс правую руку юноши и любовно кивнул ему седой головой. Глаза старика сделались влажными от радостного умиления.
Потом он поспешно отошел от окна и скоро показался с объемистым свитком папируса в руках.
– Возьми это, – сказал он, подавая свиток римлянину. – В этом папирусе я описал собственной рукой все, что тебе рассказал, и даже в форме прошения! При дворе, я знаю, подобные вещи, изложенные письменно, рассматриваются по порядку. Если царица согласится исполнить твое желание, то передай ей этот свиток и проси декрет о помиловании. Если ты можешь это сделать, то все устроится отлично.
Публий взял папирус, протянул старику еще раз руку, и тот, забывшись, крикнул во весь голос:
– Да благословят тебя боги и через тебя избавят благороднейшего из людей от невыразимых страданий! Уж я перестал надеяться, но, если ты нам поможешь, еще не все потеряно!
VI
– Простите, если я беспокою. – Такими словами евнух, тихо и незаметно подкравшийся к пастофориуму, прервал громкую речь Серапиона и почтительно склонился перед молодым римлянином. – Позволительно мне спросить, для какого союза один из благороднейших сынов Рима протягивает руку этому странному человеку?
– Спрашивать может всякий, – ответил Публий быстро и резко, – но отвечать может не всякий, и не я, по крайней мере сегодня. Прощай, Серапион, но ненадолго, я думаю.
– Дозволишь мне тебя сопровождать? – спросил евнух.
– Ты и так без моего позволения следишь за мной.
– Я это сделал по приказанию моего повелителя и только исполняю его приказ, сопровождая тебя.
– Я иду вперед и не могу тебе запретить следовать за мной.
– Но я прошу тебя подумать, – возразил евнух, – что мне непристойно, как слуге, идти позади тебя.
– Я уважаю волю моего друга, царя, который приказал тебе следовать за мной, – ответил римлянин. – Перед воротами храма ты можешь взойти в свою колесницу, а я в свою; старый царедворец сможет исполнить приказание своего повелителя.
– И он его исполнит, – покорно сказал евнух, но в его заплывших глазках будто блеснуло жало змеи. Взглядом, полным угрожающей ненависти, посмотрел он на римлянина и подозрительно взглянул на свиток, который держал в руке Публий.