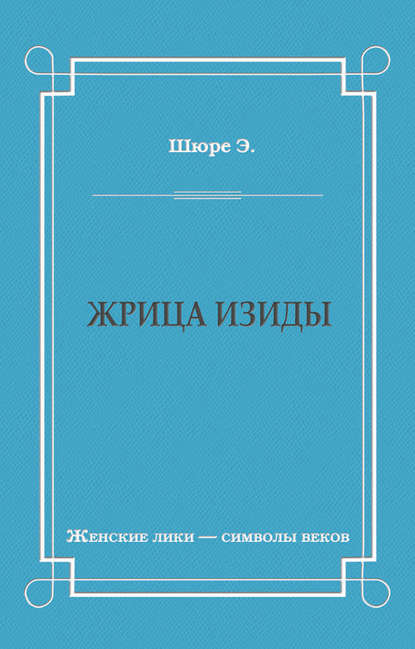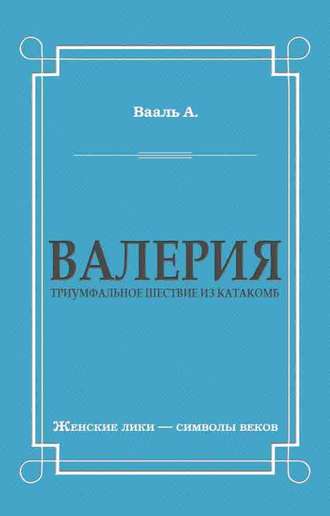
Полная версия
Валерия. Триумфальное шествие из катакомб
В начале своего правления Максенций положил конец преследованию христиан и старался различными способами заслужить благорасположение римского народа. К сожалению, это хорошее начало продолжалось только до тех пор, пока после преступного восстания против своего собственного отца его владычеству грозила опасность извне. Когда же завоевание Египта полководцем Руфом и раздор между другими императорами, а особенно смерть императора Галерия в мае 311 года освободили его от боязни за надежность присвоенного престола, он сбросил маску, и Рим с содроганием и ужасом видел теперь ежедневно увеличивающиеся примеры жестокости, жадности и постыднейшего сластолюбия, с которыми тиран преследовал язычников и христиан. Во время обнаруживающегося в 311 году голода он кричал своим солдатам: «Смелей! Вперед! Расхищайте все!» Так как народ роптал вследствие этого, и крича о хлебе, собирался вокруг дворца, Максенций приказал своим солдатам рубить толпу и таким образом навсегда утолить их голод. Чрезмерно увеличенные и с неумолимой строгостью собираемые подати шли частью на содержание войска, частью же на очень дорогие роскошные постройки; еще не был окончен новый цирк на Аппиевой улице, как император начал уже на главной площади постройку храма в честь своего умершего сына Ромула. Притесняя с такой жестокостью римский народ, Максенций старался в то же время держать в руках знать посредством конфискации имущества и боязни попасть в тюрьму. Особенно христиане должны были узнать ненависть императора. Уже в 310 году умер мученической смертью папа Марцелий; его преемник Евсевий был в следующем году сослан в Сицилию, где вскоре после того и умер. Только политический расчет по отношению к Константину останавливал тирана от возобновления прежнего кровавого эдикта Диоклетиана против христиан.
В первые дни своего возвращения в город Руфин должен был привести в порядок множество запущенных дел, требовавших его присутствия в префектуре с утра до вечера. Он отдыхал только вечером, разговаривая со своею женою и дочерью. Шестнадцатилетняя Валерия, младшая из его детей, была чрезвычайно прелестное и грациозное создание; черные волосы обильными локонами окружали ее овальное, с нежными чертами лицо, и в глубоких глазах ее светилась чистая, полная детской непорочности, душа. Она обладала пылким умом и необыкновенной силой воли, почему и была радостью и гордостью своего отца, нежно любившего единственно еще оставшееся ему дитя.
Однажды вечером Руфин застал свою жену крайне серьезно настроенной. Напрасно спрашивал он о причине, напрасно старался развеселить Сафронию, которая чувствовала себя удрученной необъяснимым беспокойством. Когда после ужина раб поставил на стол корзиночку превосходного красного винограда и Валерия, подняв одну из кистей, с детской радостью любовалась ее величине и красоте, серьезно настроенная Сафрония начала в необыкновенно торжественных словах говорить по этому поводу:
– Узнай в этом плоде, – говорила она своей дочери, – образ страданий и испытаний души. Весенний луч должен найти виноградный куст выросшим на каменистой почве, привязанным к дереву и мокрым от слез под ножом виноградаря, чтобы сжалиться над ним и вырастить из обнаженной лозы благороднейший плод!
Валерия невольно опустила виноград обратно в корзину, мать же сорвала задумчиво одну красную ягоду, раздавила ее между пальцами и сказала:
– Кожа красна, внутренность же чиста и прозрачна, и между твердыми косточками винограда находится сладкий сок – так и со страданием.
На глазах Сафронии искрились слезы, молча и с огорченными сердцами сидели напротив нее муж и дочь.
Если бы особенно важное совещание не требовало, именно сегодня его личного присутствия в префектуре, на другой день Руфин охотно остался бы дома ради своей супруги, тяжелое предчувствие которой еще увеличилось, все-таки он обещал через час вернуться. После его ухода Сафрония поднялась на открытую, убранную цветами башенку их дома и следила глазами за мужем, идущим по дороге мимо Колизея к площади, где за храмом Мира находилось здание префектуры. Перед ее глазами возвышался там с очаровательной прелестью Фламиниев амфитеатр, или Колизей, превышаемый двойным храмом Венеры и Рома, вблизи его находилась триумфальная арка Тита и по левую сторону Палатинский холм с гордым великолепием царских дворцов; одно строение величественнее другого. Блеском утреннего солнца освещались храмы Юпитера Статора, Септима Севера и дворцы Августа, Тиберия и Калигулы с лесом колонн и статуй, ослепляя глаза богатым убранством золота, красок и редкого мрамора. Позади всего возвышался Капитолий с укрепленным замком и крытым золотом храмом Юпитера. Однако глаза патрицианки не видели всего этого великолепия, душа ее носилась далеко, вместе с ее сыновьями, и невыразимое желание их видеть вкралось в ее сердце. Она думала о своем муже и, вздыхая, подымала омраченный слезами взор к небу с вопросом: «Когда, о Боже, когда же уступит тьма язычества в его душе место познанию Твоей истины?
Опечаленная такими мыслями, она не обратила внимания на страшные фигуры, приближавшиеся к их дворцу, не видела, как рабы в императорских ливреях внесли на передний двор их дома закрытые носилки, тогда как на ближайшей улице, как в засаде, строились вооруженные солдаты.
Сафрония была выведена из мрачной задумчивости докладом, что царедворец желает с ней говорить, и только что о нем доложили, как он появился сам.
При виде этого человека, отталкивающие черты которого еще больше обезображивались наглой усмешкой, благородная женщина вздрогнула, вольноотпущенный же поклонился низко госпоже и сообщил ей, без обиняков, что божественный Максенций, очарованный ее красотой и грацией, избрал ее себе в супруги; что он, слуга монарха, получил приказание сейчас же привести ее к властелину и что носильщики стоят уже готовыми к услугам на переднем дворе.
Мертвенная бледность покрыла лицо Сафронии, несколько минут стояла она, окаменев от ужаса, подобно лани, увидевшей шакала, от которого она уже не может убежать и когти которого растерзают ее в следующее мгновение. Взгляд к небу привел ее в себя, и она ответила послу с твердой решимостью:
– Передай императору следующие слова его подчиненной: «Я христианка и священным союзом неразрывно связана со своим мужем; я не смею и никогда не исполню воли императора.
– Ну, – ответил царедворец с легкомысленной насмешкой, – от этих священных уз, которые привязывают тебя, высокая госпожа, к мужу, легко освободиться. Все смертны, гласит пословица. Итак, ничто не мешает тебе исполнить приказание императора».
Сафрония содрогнулась.
– Нет! – воскликнула она гневно, – никогда, никогда!
– Так знай, – сказал вольноотпущенный холодно и сухо, – что я имею строгое приказание немедленно, хотя бы и силой, привести тебя к императору. Чтобы избежать шума, я велел занять все входы, мои люди стоят в передней.
Угнетенная ломала безмолвно руки. Неужели нет никакого спасения? Из глубины своего душевного страдания устремила Сафрония к небу взгляд, полный пламеннейшей мольбы, как бы вдохновение свыше вложило ей в уста слова просьбы, с которой она, по-видимому, соглашаясь с приказанием, обратилась к царедворцу:
– Предоставь мне четверть часа времени, чтобы одеть праздничное платье, – сказала она.
Тот охотно согласился и, когда Сафрония ушла, сказал, язвительно смеясь:
– Похожа на всех!.. Женская добродетель? Ха-ха-ха!
Прошло четверть часа, Сафрония не являлась.
После продолжительного ожидания царедворец вышел из терпения, особенно когда вспомнил об ожидающем императоре, и смело пошел через соседние комнаты к покоям Сафронии. Он постучал, – ответа не последовало. Он позвал, – все было тихо.
Неужели, несмотря на все принятые им меры, нашла эта женщина выход, может быть тайный выход, чтобы убежать?
Быстро решившись, отворил вольноотпущенный двери; в ту же минуту Сафрония со словами: «Господи, тебе вручаю свою душу!» – вонзила себе в сердце кинжал. Она упала, не испустив ни звука.
С проклятием на губах убрался царедворец оттуда.
Евсений, писатель истории церкви, рассказывает нам это событие в своей книге «Жизнь Константина», причем он добавляет: «Эта женщина доказала своим поступком всему человечеству в настоящем и в будущем, что целомудрие только у христиан непобедимо, что оно сильнее смерти».
Немедленно извещенная рабыней о прибытии сыщика, Валерия, которая обыкновенно проводила утренние часы в занятиях наукой, поспешила в комнату матери; императорская стража ее оттолкнула. Намек одного из них дал ей понять, что что-то ужасное угрожает ее матери, и невыразимый страх охватил ее. Так прошло почти полчаса: наконец пришел вольноотпущенный, кивнул своим людям, и они поспешили уйти с ним.
Валерия вздохнула свободнее: ее матери, вероятно, удалось оттолкнуть от себя чудовище.
Она летела через комнаты, которые вели к покою ее матери, и громко звала ее. Однако ответа не было и… о милосердный Боже! Вот она лежит мертвая в своей крови.
С громким криком упала девушка на пол.
Руфин ускорил, по возможности, свои дела и поспешил домой, потому что и им овладел необъяснимый страх. Уже на переднем дворе встретили его, рыдая и жалуясь, привратники и рабыни.
С боязливой поспешностью ворвался он в комнату Сафронии: как громовой удар подействовал на него вид окровавленного тела.
Охваченный необъяснимым страданием, бросился он на пол возле покойной, положил ее голову себе на руки и восклицал, рыдая:
– Сафрония, милая жена! Нет, не может быть! Ты не умерла! О, скажи еще хоть одно слово! Открой хоть еще один раз глаза!
Однако супруга была мертва; когда же он осведомился о своей дочери, то узнал, что она в обмороке, и направился, шатаясь, от ложа покойницы к постели своей дочери.
Бледная как мрамор, с закрытыми глазами, без дыхания, лежала там Валерия. Руфин схватил судорожно ее руку, как бы желая удержать душу в слабом теле. Ах, если это не только обморок! Если в одно время похищены у него жена и дочь! Верная кормилица, которая ухаживала за больной, успокоила отца, говоря, что пульс ее еще бьется и что Валерия скоро очнется.
– Но тогда нужна величайшая осторожность, – прибавила она и попросила отца подождать в соседней комнате ее пробуждения.
Руфин вышел.
Обморок продолжался долго, и несчастный человек имел достаточно времени измерить и взвесить всю тяжесть своего положения. Внезапный удар надломил его, и он напрасно искал опоры, которая бы его поддержала. Сегодня в первый раз испытал он на самом себе, что слабая сила обитателя земли не в состоянии одна снести всю тяжесть большого несчастья. А с неба не простиралась рука, чтобы облегчить его страдания, и философия его оказалась бессильной в этом деле.
Вдруг одна из рабынь принесла лист бумаги, который теперь только заметили на столе в комнате Сафронии. Руфин сразу узнал почерк своей жены: в письме было сказано:
«Супруг мой, один Бог знает, как горячо я люблю тебя и наших детей, как сердце мое разрывается при мысли, что должна вас оставить внезапно, не простясь. Но иначе нельзя. Я должна сохранить беспорочным для Бога священнейшее, что имею; я не смею предать поруганию сосуд Святого Духа. Я бы растаяла от стыда, если бы должна была воротиться к тебе опозоренной; тем не менее должна я предстать такой перед глазами Ангелов и перед лицом Божьим. С пламенейшим усердием, от всего сердца просила я Его указать мне другую дорогу к спасению, а если не придет помощь, так я последую внутреннему голосу и убегу, как олень от сетей охотника, вверх к горам недоступным для преследования. Христос примет мою душу, и мой верный Руфин, чего я не могла здесь, как грешница, вымолить для тебя, того надеюсь достигнуть, когда буду молиться за тебя, как мученица. Валерия, милое дитя мое, утешай своего отца, предай меня молитве церкви; вспоминай обо мне, несчастной! И на небе я останусь твоей и твоих братьев матерью и когда-нибудь…»
Письмо осталось неоконченным. Приход императорского вольноотпущенного не дал Сафронии высказать до конца веру и надежду на будущее свидание там, где счастью святых не угрожает опасность разлуки.
Руфин перечитал письмо еще и еще раз, и страдание его облегчилось потоком слез. Какой нежной любовью дышало каждое слово умершей, как проглядывал в каждой строке благородный, возвышенный ум его супруги!
Римская история повествует, что подобный же случай произошел с Лукрецией, которая, не желая пережить своего позора, убила себя сама. Кто бы подумал, что подобное геройство теперь еще возможно? И все-таки подвиг Сафронии был тем выше, чем благороднее были причины, побудившие ее к этому. Руфин, хотя и язычник, чувствовал превосходство этих побудительных причин, корень которых заключался единственно в высоком понимании целомудрия и супружеской верности у христиан.
Рабыня доложила, что Валерия пришла в себя и желает видеть отца. Молча протянула ему больная руку, оба не находили слов для выражения своих страданий, и только глаза и безмолвное пожатие рук говорили.
Впрочем, горе Валерии было совершенно другое, чем горе отца, особенно когда она прочла письмо матери. Она – христианка, могла вполне понять высокий смысл поступка покойной. Ей, дочери-христианке, мать могла всегда открывать свое сердце. Сафрония так и поступала со всей святой любовью матери, тоже христианки. Чего муж ее, как язычник, не понимал, о чем она не могла с ним говорить, что в часы возвышения и просвещения смущало и наполняло ее благородную душу, она все изливала в восприимчивое сердце своей дочери. Как часто молились они и плакали вместе у престола милосердия Божия, чтобы рухнула наконец стена, отделяющая их в самом высоком и святом от мужа и отца! Валерия потеряла больше, чем мать, но, удрученная горем, она смотрела на стоявшую у престола Господня, украшенную победным венком мученицу и ясней становилась ей надежда, что час милосердия для ее любимого отца теперь уже не так далек.
Между тем одна из рабынь дала знать о случившемся задушевной подруге Сафронии Ирине, и благородная матрона вступала теперь, полная христианской любви и участия, в несчастный дом. Ирина умела как никто, проливать целительный бальзам на жгучие раны; она принесла с собой (как гласит ее имя) покой; с ее появлением явились покорность и надежда: два ангела, которых вечное милосердие послало в эту долину слез, чтобы слабый смертный не согнулся под тяжестью креста.
При смерти благородных людей таинственное утешение заключается в представлении их последних слов и действий, – золотой закат после солнечного дня. Поэтому Ирина рассказала, как Сафрония вчера еще в обед пошла в одну из отдаленных улиц транстиберинского квартала, чтобы отнести одной бедной роженице укрепляющую пищу и новое белье ее ребенку. Потом вспомнила она некоторые черты тихой добродетели, геройской самоотверженности, некоторые слова сердечной подруги, которые, как аромат из чашечки розы, истекали из глубины ее благородного сердца. И как было дополнено изображение Сафронии, набросанное Ириной, последними, написанными ею в виду смерти словами.
Полные любовью к умершей, разговаривали обе женщины, не обращая внимания на чуждость религиозных взглядов Руфина; ведь и Сафрония написала в таком же духе последние прощальные слова. Но жаждущее утешения сердце Руфина принимало все, как иссохшая почва – оживляющий дождь. Он всегда думал, что знает Сафронию до глубины ее души: теперь только открылась перед ним вся глубина ее чистого и благородного сердца. И что за возвышенные идеи, которые он сегодня в первый раз слышит и которые, казалось, были доверены этим женщинам!
Руфин знал, что муж Ирины вместе с двумя дочерьми был казнен ради христианской веры, однако никогда не интересовался подробностями их смерти. Теперь же его побуждало узнать, как перенесла слабая женщина потерю мужа и детей, и в своей требующей утешения печали он воспользовался одним замечанием последней, чтобы высказать свою просьбу.
Ирина поняла мысли Руфина и охотно исполнила его желание.
– Когда были изданы кровавые эдикты Диоклетиана, – начала она, – и когда Максимиан, следуя своей враждебной жестокости, изгнал христиан из всех пристанищ, конфисковал наши церкви, госпиции и даже наши кладбища, мой муж Кастула, который был при монархе важным сановником, предоставил им в распоряжение наше жилище для церкви. В то время как император подписывал кровавые смертные приговоры, христиане отправляли в его собственном дворце святые таинства. Помнишь ли ты еще, благородный Руфин, храброго трибуна Севастиана?
– Который был сначала исколот нумидийскими стрелами, однако возвратился опять к жизни и тогда уже был убит дубинами, – ответил утвердительно, кивая головой, Руфин. – Припоминаю, что тогда много об этом говорили.
– Мы перенесли, – продолжала Ирина, – «мнимоумершего» в наше жилище, чтобы похоронить его в тиши следующей ночи. Однако с величайшей радостью заметили, что Севастиан жив, и нам удалось скоро восстановить истощенные потерей крови силы. Едва вылечившись, предстал он перед императором, страстно желая мучений. Максимиан велел убить его, как собаку, однако вскоре стал узнавать, где Севастиан нашел приют и уход. Открытие, что его собственный царедворец в его собственном доме предложил ему убежище и даже собирал там христиан для совершения богослужения, привело его в величайшую ярость. Мой супруг был немедленно схвачен и после троекратного допроса и троекратной пытки на Лабиканских воротах закопан живым в песочную яму вблизи водопровода Клавдия.
Ирина, охваченная внутренним волнением, помолчала несколько минут и затем продолжила:
– Я с двумя дочерьми, девушками пятнадцати и шестнадцати лет, была при грубом истязании отведена в тюрьму. Мое младшее дитя Кандид избежал мести императора, так как Кастул незадолго перед этим отправил мальчика в военное училище в Галлию. Все ужасные страдания месячного заточения были еще увеличены тем, что меня разлучили с детьми и, несмотря ни на какие просьбы, я не могла ни видеть их, ни узнать что-либо о них. Однажды утром, пришел сторож и доложил с железным хладнокровием, что обе девушки лежат мертвыми на полу их тюрьмы. В моей горячей просьбе увидеть хотя на одну минуту их трупы жестокий человек отказал сначала, но наконец моя любовь победила, когда я напомнила ему собственных его детей. Я вошла за перегородку: там лежали они, два увядших бутона, на земле. Одна протянула руки в виде креста, другая покоилась около нее – жертва возле жертвы.
Слезы заглушили голос Ирины; глубоко тронутый Руфин схватил руку своей дочери: как возможна была для него подобная же утрата!
Матрона вытерла слезы и так закончила свой рассказ:
– Восшествие на престол Максенция открыло двери моей тюрьмы, и я направила первые шаги к месту, на котором покоился прах моего мужа, а оттуда к детям, поставленным в общую гробницу на кладбище Каликста. С тех пор я живу одиноко, как дерево зимой, лишенное листьев, простирающее свои нагие ветки к небу. Одно-единственное утешение и надежду оставил мне Бог – моего сына Кандида.
Ирина замолчала, в молчаливой задумчивости сидел и Руфин. Сколько горя перенесла эта слабая женщина! И откуда почерпнула она мужество при таком искушении?
Валерия постепенно настолько оправилась, что осмелилась просить отца позволить оказать дорогой покойнице последнюю дружескую услугу, а так как и Ирина поддержала ее просьбу, то Руфин, несмотря на свое опасение, дал наконец согласие. Кто мужественно пьет чашу испытаний, тот находит на дне ее таинственную небесную силу: это Ирина испытала на себе.
И так Валерия пошла с подругой своей матери в домашний архив, куда тело покойной было перенесено слугами и положено на тюфяк. Руфин остался в комнате один со своей печалью и мыслями, но печаль улеглась и мысли прояснились.
Когда утренний рассвет посылает свои первые лучи на темную поверхность моря, тогда сглаживается зыбь и благодарственно приветствует кормчий проблеск нового дня.
Прежде чем лишить себя добровольно жизни, Сафрония надела то белое полотняное платье, которое получила в день своего крещения: она хотела возвратить его Богу и Спасителю незапятнанным грехом, окрашенным мученической кровью.
Валерия опустилась глубоко расстроенная на колени у тела покойной и, обвив руками дорогую голову, разразилась следующими словами:
«Милейшая мать, как мученица, с пальмовой веткой в руках стоишь ты теперь у престола Господня. Нет, я не хочу плакать! Дочь такой сильной женщины, дитя мученицы должна показать себя достойной своей матери. Пусть Бог привьет слабый черенок к дереву креста. О, ты святая, сквозь слезы смотрю я на небесное величие и прославляю с тобой нашего Господа».
С помощью Ирины и двух верных служанок принялась Валерия за прискорбно-сладкую работу. Они набальзамировали труп покойной дорогими душистыми травами, одели ее в расшитое золотом платье, вложили ей в руки пальмовую ветвь и обвили голову венком из роз. Поставленная по староримскому обычаю ногами к дверям, покойница была окружена свечами. В курильнице горел перед ней благовонный ладан, наполнявший благоуханием комнату. Обрызганное кровью платье матери Валерия спрятала, как священную реликвию, в шкатулку из драгоценного дерева, обложенную дутым серебром и убранную украшениями из слоновой кости.
Ирина взяла на себя некоторые заботы о приготовлении к погребению, как, например, известить о смертном случае в церкви Либитины и заказать носильщиков мертвых: Валерия же поспешила к своему отцу, чтобы утешить его, оставленного в печали. Ведь она знала, как он нуждается в утешении, он, которому не светил во тьме его несчастья благодатный свет милосердия и веры – луч, который облегчал ей потерю преданием себя воле Господней и надежде на будущее свидание.
Она застала своего отца с опущенной на руки головой, думающим о письме Сафронии; он протянул ей листок и сказал:
– Прочти мне это громко, дитя мое, в твоем голосе я опять услышу голос твоей матери.
Валерия взяла лист и начала читать. Вначале ей удалось сдерживать свое внутреннее волнение, но когда она взглянула случайно на отца, у которого слеза за слезой катилась по щекам, тогда и ей овладело уныние и ее голос дрогнул. Но со всей унаследованной от своей матери энергией своей крепкой души ей удалось побороть волнение и продолжать чтение; она заключила его следующими словами:
– «Христос примет мою душу, и, мой верный Руфин, чего я не могла здесь как грешница вымолить для тебя, того надеюсь достигнуть, когда буду молиться за тебя как мученица…» Это завещание матери, – сказала Валерия, обвивая с пламенной нежностью шею отца руками, – не хочешь ли ты исполнить ее последнее желание?
Руфин смотрел сквозь слезы на свою дочь, теребил ее руку и молчал. Дочь понимала его, и глаза ее, полные благодарности и надежды, поднялись к небу: молитва мученицы начинала действовать; душа, которая так долго заблуждалась, почувствовала первую потребность иметь хорошего пастыря, который взял бы ее на плечи, как потерянную овцу, и отнес в сад сладкого спокойствия души и небесного утешения.
По его желанию Валерия должна была проводить его к телу матери. Вид покойницы, лежавшей в гробу, так потряс его, что горе смешалось в его сердце с благоговейным почитанием супруги-мученицы. Становясь перед ней на колени, он положил письмо на грудь покойницы и устремлял поочередно свой затуманенный слезами взгляд то на ее письмо, то на спокойно-радостное лицо супруги, как бы желая еще раз слышать эти слова от нее самой. Сафрония умерла, чтобы сохранить ему супружескую верность, но Руфин чувствовал с живейшим убеждением, что она способна была на эту жертву только потому, что была христианка. Обычные предубеждения против христианства были уже давно изгнаны блеском добродетели его жены и дочери; но, что их религия может воодушевить к таким великим жертвам, было для него ново и глубоко тронуло его, и взгляд его невольно возвращался опять и опять на последние слова письма: «…чего я не могла здесь как грешница вымолить для тебя, того надеюсь достигнуть, когда буду молиться на тебя как мученица».
Глава III
Грозные тучи
С мрачным взглядом, небрежно лежа на диване, зевая над скучным текстом «дневника» – acta diurna – тогдашней государственной газеты, ожидал Максенций прихода Сафронии.
Все существо его показывало низкое и варварское происхождение. Это была плотная, широкоплечая фигура – живой образ грубой и беспутной силы. С низкого лба его спускались почти до бровей всклокоченные волосы; круглая толстая голова покоилась на тучной шее, что-то невыразимо наглое сверкало в его проницательных глазах. Он сам любил сравнивать себя с Геркулесом, своих телохранителей, состоявших из самых высоких и сильных солдат, он называл геркулесами.
Максенций кончил чтение «дневника» и только что хотел, не имея больше терпения ждать, послать второго вольноотпущенного в квартиру Сафронии, как доложили о прибытии вестового с крайне важным письмом.
– Пусть отнесет его к префекту канцелярии, Ираклию, или куда хочет, – ответил император, зевая, однако опомнился; ему пришло в голову, что тут наверняка известия с театра войны в верхней Италии, и велел подать письмо.