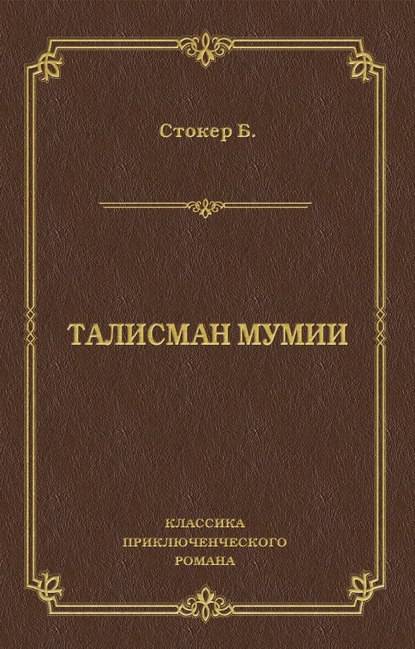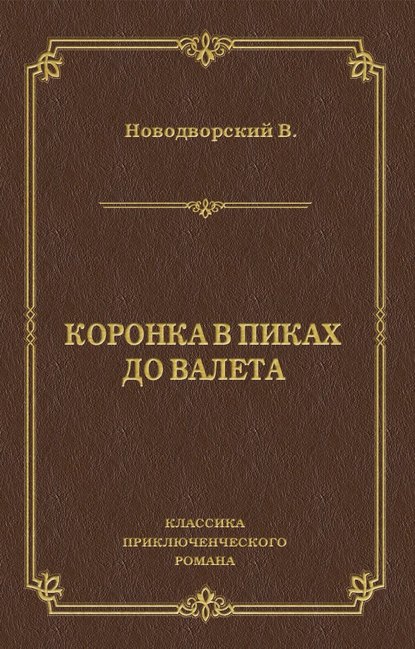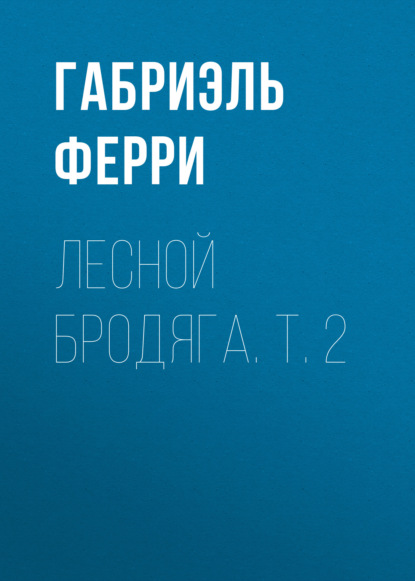Полная версия
Приключения капитана Коркорана
– Милостивый государь, – прервал капитана несменяемый секретарь, – вы нам обещали рассказать историю Луизон.
– Потерпите немного, я сейчас к этому приступлю… Но он был прерван отдаленным грохотом барабана.
– Это что значит? – с заметным беспокойством спросил президент.
– Я догадываюсь! – отвечал Коркоран. – Это испугавшийся и забаррикадировавший дверь швейцар отправился искать помощь… Вот так трус!..
– Черт возьми! – сказал один из академиков. – Он лучше бы сделал, если бы оставил двери открытыми, мне тогда не пришлось бы терять время, слушая историю Луизон.
– Внимание! – сказал капитан. – Дело принимает серьезный оборот. Звонят в набат.
Действительно, звон колокола раздался с ближайшей колокольни и подхвачен был всеми другими с быстротою пламени, раздуваемого ветром.
– Бомбы и картечь! – смеясь, воскликнул капитан. – Дело будет жаркое, моя бедняжка Луизон, по тому, что я предвижу, тебя намереваются осаждать, как крепость… Возвращаясь к моей истории, господа, я вам скажу, что в конце пятьдесят третьего года я построил корабль «Сын бури» в Сен-Назаре и на нем отвез в гавань Батавии около восьмисот бочек бордоского вина. Дело оказалось прибыльным. Довольный собою, ближними, Божественным Провидением и положением моих дел, я в один прекрасный день задумал доставить себе удовольствие, очень редко возможное в морских путешествиях, а именно поохотиться на тигра. Вам известно, господа, что тигр, впрочем представляющий собой одно из прекраснейших творений природы, – взгляните на Луизон, – по несчастью, получил в дар от неба необычайный аппетит. Он любит быка, гиппопотама, куропатку, зайца, но больше всего ему нравится обезьяна вследствие ее сходства с человеком; а человек ему нравится в силу его превосходства над обезьяной. Кроме того, тигр очень разборчив: он никогда не будет два раза сряду есть один и тот же кусок. Так, например, если бы Луизон сожрала, завтракая, плечо господина несменяемого секретаря, ничто бы ее не могло заставить попробовать другое плечо во время ее ленча. Она такая же лакомка, как епископская кошка.
Секретарь при этом сделал гримасу.
– Боже мой! – продолжал Коркоран. – Я прекрасно сознаю, что Луизон не права, так как одно плечо не хуже другого, но таков ее характер и его не переделаешь. Я отправился из Батавии с ружьем на плече и в высоких сапогах, как парижанин, отправившийся охотиться за зайцем в Сен-Дени. Господин Корнелиус ван Критенден, грузивший свои товары на мой корабль, хотел, чтобы меня сопровождали два малайца, которые должны были выследить тигра и дать себя сожрать вместо меня, если бы мне не удалось управиться с хищником. Но вы, господа, понимаете, что я Рене Коркоран, уроженец Сен-Мало, прадед которого был дядей отца Роберта Сюркуфа, только рассмеялся в ответ на предложение почтенного ван Критендена. Однако так как все-таки мне нужны были помощники для перевозки моей палатки и съестных припасов, то оба малайца меня сопровождали, сидя в телеге.
Прежде всего, в нескольких милях от Батавии я встретил глубокую реку, протекавшую по густому лесу, сплошь населенному обезьянами. Вот в таких дебрях встречаются львы, тигры, боа констриктор, пантеры и кайманы, самые свирепые из всех тварей, за исключением, конечно, человека, убивающего без всякой надобности и только ради удовольствия убить.
Как только наступил одиннадцатый час дня, жара стала до того невыносима, что даже малайцы, привыкшие к такому климату, просили пощады и улеглись в тени деревьев. Что касается меня, я улегся в телеге с ружьем в руках, так как опасался какой-либо неожиданности, и вскоре заснул глубоким сном.
Странное зрелище пришлось мне увидеть, пробудившись.
Река, на берегу которой я расположился лагерем, называлась Макинтош, по имени одного шотландца, приехавшего искать счастье в Батавии. Однажды, когда он плыл по ней в лодке с несколькими друзьями, порывом ветра сорвало с него шляпу, упавшую в руку. В тот момент, когда он протянул руку, чтобы схватить шляпу, и уже прикоснулся к ней, ужасная пасть схватила руку и потянула его на дно реки.
Пасть эта принадлежала еще не позавтракавшему кайману.
Погибшего Макинтоша долго искали, но все было тщетно. Однако само Провидение наказало убийцу.
Зрительная труба шотландца висела на груди его. Потому ли, что кайман был страшно обжорлив и не успел разглядеть, что он глотает, или по другой причине, но труба стала поперек горла пресмыкающегося, так что он не мог проглотить молодого человека, а также не мог подняться со дна на поверхность воды, чтобы дышать свободнее, и таким образом он издох благодаря обжорству. Несколькими днями позже каймана нашли на берегу вместе с мертвым Макинтошем, застрявшим в его пасти…
– Милостивый государь! – прервал Коркорана президент академии. – Мне кажется, что вы заметно уклоняетесь от предмета нашего желания. Вы нам обещали сообщить историю Луизон, но не историю зрительной трубы Макинтоша.
– Милостивый государь! – почтительным тоном отвечал капитан. – Я тотчас возвращусь к истории Луизон… Итак, было около двух часов пополудни, когда я внезапно был разбужен ужасными криками; я поднялся, подготовил ружье и терпеливо ждал появления неприятеля. Крики эти испускали мои малайцы, прибежавшие в сильном испуге и искавшие убежище в моей телеге.
«Господин, господин! – сказал один из них. – Вот уже приближается владыка! Берегитесь!..»
«Какой владыка?»
«Господин тигр!»
«Ну что же, тем лучше. Мне не придется его искать. Посмотрим на этого страшного владыку!»
Говоря это, я спрыгнул на землю и пошел навстречу неприятелю. Видеть его еще нельзя было, но его приближение угадывалось по страху и бегству всех других животных. Обезьяны спешили влезть на деревья и с высоты этих обсерваторий делали ему гримасы, точно желая раздразнить его. Некоторые, более смелые, даже бросали в него кокосовыми орехами. Что касается меня, я только мог угадать направление, по которому он шел, по шуму листьев, искомканных его лапами. Мало-помалу этот шум приближался, и, так как дорога была настолько узка, что только одна телега могла проехать по ней, я начинал уже опасаться, что увижу тигра слишком поздно и не буду иметь достаточно времени для прицела, так как густота чащи леса его от меня совершенно скрывала.
По счастью, я тотчас догадался, что он уже прошел мимо, не видя меня, и что он попросту шел к реке, чувствуя жажду. Наконец я его увидел. Пасть его была окровавлена, вид его был совершенно довольный, с походкой, как у капиталиста, идущего после превосходного завтрака выкурить сигару на Итальянском бульваре. Так как он был в десяти шагах от меня, то, заслышав сухой треск взведенного мною курка, он казался немного обеспокоенным. Наполовину повернув голову, он посмотрел на меня сбоку и, заметив меня сквозь разделявший нас кустарник, остановился, точно размышляя.
Я не спускал с него глаз; но чтобы убить его одним ударом, надо было попасть в лоб или в сердце, а между тем он стоял вполоборота, как знатный тигр, позволяющий снимать себя фотографу.
Так или иначе, но в этот день Божественное Провидение избавило меня от печального убийства, так как этот тигр или, вернее, эта тигрица, была не кем иным, как моей дорогой и прелестной подругой, этой кроткой Луизон, которую вы видите, слушающей нас внимательно, насторожив уши.
Луизон тогда, очевидно, хорошо позавтракала, это оказалось большим счастьем как для нее, так и для меня. Она думала только о том, чтобы покойно переварить пищу, и потому, поглядев на меня в течение нескольких секунд сбоку… вот поглядите, господа, вот именно так, как она в эту минуту смотрит на господина секретаря…
При этих словах секретарь встал и сел позади президента.
– Тигрица, – продолжал Коркоран, – медленно шла к реке, протекавшей в нескольких шагах от меня. Но вдруг я увидел изумительное зрелище. Луизон, шедшая до сего времени невозмутимо спокойно и величественно, вдруг остановилась и, вытянувшись во весь рост, припала брюхом к земле и продвигалась вперед чрезвычайно медленно и осторожно, чтобы никто ее не видел и не слышал, около длинного и толстого ствола дерева, лежавшего на песке на берегу Макинтоша.
Я шел позади нее, готовясь выстрелить при первом благоприятном моменте. Но я был крайне изумлен, подойдя к этому стволу дерева, так как увидел, что оно обладало лапами и покрыто было чешуей, блестевшей под лучами солнца; глаза были закрыты, а пасть полуоткрыта.
Это был крокодил, спавший на песке под горячими лучами солнца сном праведника. Он спокойно похрапывал, как храпят крокодилы, не имеющие на совести какого-либо недоброго дела.
Этот сон, эта поза, полная грации и неги, и не знаю что еще, по всей вероятности, ввели Луизон в искушение. Я видел, как раздвинулись и шевелились ее губы; она смеялась, как шалун-школьник, намеревающийся ловко подшутить над своим школьным учителем. Она осторожно и тихо засунула всю лапу в пасть крокодила, пытаясь вырвать язык этого сони и полакомиться им в виде десерта, так как Луизон была отъявленной лакомкой, а это порок ее пола и ее возраста.
Но она очень строго была наказана за свое злобное намерение.
Не успела она прикоснуться к языку крокодила, как пасть его сомкнулась. Он открыл глаза, большие глаза зеленого цвета морской воды… Я и теперь вижу эти глаза как бы перед собою… Он поглядел на Луизон с выражением изумления, гнева и боли, описать которое невозможно. Со своей стороны, Луизон было не до шуток. Дорогая моя бедняжка яростно пыталась выдернуть лапу из острых зубов крокодила. По счастью, она так сильно впивалась когтями в его язык, что несчастный не имел возможности напрягать все силы и отрезать ее лапу, что он мог сделать без всякого труда, будь свободен язык.
До сих пор бой был равен, и я не знал, кому из двух противников желать успеха, потому что, во всяком случае, поступок Луизон был предосудителен и ее шутка была крайне неприятна ее противнику. Но дело в том, что Луизон была так прелестна! Она была полна грации, члены ее тела были так изумительно гибки, движения так красивы и разнообразны! Она похожа была на молодую кошечку, играющую на солнце под надзором матери!
Но, увы! Не до игры было ей, мечущейся по песку, испуская яростное рычание, разносившееся далеко в пустом лесу. Обезьяны, в полной безопасности рассевшиеся на ветвях кокосовых деревьев, смеясь, любовались этой отчаянной битвой. Бабуины, показывая Луизон макакам, делали ей, положа мизинец на нос и распустив при этом все остальные пальцы, насмешливое движение рукою точно парижские гамены[3]. Один из них, очевидно гораздо смелее прочих, даже спустился с ветки на ветку на расстояние шести футов от земли и там, ухватившись хвостом за ветку, осмелился концами когтей слегка царапать морду опасной тигрицы. Увидев эту шутку, все бабуины громко захохотали, но Луизон сделала по направлению шутника такое быстрое и угрожающее движение, что молодой бабуин живо убрался и, признавая себя счастливым, избежав ее зубов, не осмелился более повторить свою шутку.
Между тем крокодил тащил несчастную тигрицу в реку. Она подняла глаза к небу, точно умоляя его о помощи, а быть может, для того, чтобы оно было свидетельницей ее мучений, и вдруг случайно встретилась с моим взглядом.
Какие чудные глаза! Какой печальный и кроткий взгляд, в котором выражались предсмертные страдания! Бедная Луизон!
В этот момент крокодил погрузился в воду, желая увлечь на дно тигрицу. При виде этого я принял твердое решение. Пенящаяся, клокотавшая вода доказывала усилия Луизон вырваться из зубов крокодила. Я ждал в течение полуминуты, не спуская глаз, и, взяв ружье на прицел, готовился спустить курок.
По счастью, Луизон, хотя и животное, но весьма умное, догадалась схватиться за ствол дерева, склонившегося над рекой, и эта предосторожность спасла ей жизнь. Выбиваясь, ей удалось высвободить голову, поднять ее из воды и вследствие этого избегнуть задохнуться в воде. Мало-помалу сам крокодил почувствовал потребность дышать воздухом, а потому отчасти добровольно, отчасти насильно вылез из воды на берег.
Я только этого и ждал. В мгновение ока участь его была решена. Прицелиться в него, выстрелить из ружья прямо в левый глаз и раздробить ему череп было делом двух секунд. Несчастный открыл пасть, желая застонать; вслед за тем забил по песку всеми четырьмя лапами и тотчас издох.
Со своей стороны, тигрица, еще быстрее, чем я заметил, уже успела вынуть свою наполовину разорванную лапу из пасти врага.
Сказать по правде, первое ее движение не выражало доверия или благодарности. Быть может, она полагала, что я для нее враг опаснее крокодила. Прежде всего, она попыталась бежать; но бедное животное, владея только тремя ногами и с изувеченной четвертой, двигалось так, что протащилось только десять шагов. Сознаюсь вам, что я уже чувствовал себя сильно к ней расположенным. Прежде всего, я оказал ей большую услугу, а ведь вам известно, что привязываешься к друзьям гораздо более в силу оказываемых им услуг, нежели в силу тех, которые от них получаешь. Кроме того, она казалась мне очень хорошего характера, потому что даже та шутка, которую она задумала проделать с крокодилом, выказывает жизнерадостность, а вам известно, господа, что радость, веселье, если только они искренни, нелицемерны, служат признаками доброго сердца и чистой совести.
Наконец, я был одинок, в чужой стране, в пяти тысячах лье от Сен-Мало, без друзей, без родных, без семьи. Мне казалось, что общество подруги, обязанной мне сохранением своей жизни, хотя у этой подруги были и четыре ноги, страшные когти и ужасные зубы, все-таки лучше, чем полное одиночество.
Был ли я не прав? Нет, господа! Последствия доказали, что я был вполне прав.
Когда я подходил к ней, увидел, что она, не будучи в состоянии держаться на трех ногах, легла на спину и с видимым отчаянием поджидала моего нападения. Она испускала глухое рычание, свойственное ей, когда она приходит в ярость, скрежетала зубами, показывала мне когти и, по-видимому, готовилась растерзать меня или, по крайней мере, дорого продать свою жизнь.
Но я умею приручить самые свирепые существа. Приблизившись к ней медленно и самым спокойным видом, положив ружье поблизости от себя на песок, я наклонился над тигрицей и тихонько поглаживал ее голову, точно голову ребенка. Сначала она взглянула на меня искоса, точно вопрошая меня, но, убедившись, что намерения мои дружелюбные, легла на живот, тихонько лизнула мою руку и с грустным видом протянула мне пораненную лапу. В свою очередь я понял всю цену этого выражения доверия и тщательно осматрел ногу. Все кости были целы. Даже зубы крокодила впились не очень глубоко, вследствие того что Луизон сильно сжала его язык. Я ограничился тем. что, тщательно промыв рану, вынул из патронташа флакон с алкали, налил на рану несколько капель и затем подал Луизон знак следовать за мной. Из благодарности ли или из желания лечить рану она последовала за мной к телеге, где сопровождавшие меня малайцы чуть не умерли от страха, увидев ее. Они выскочили из телеги, отбежав в сторону, и ни за что в мире не соглашались подступить ближе.
На следующий день мы возвратились в Батавию, где Корнелиус ван Критенден был весьма изумлен, увидев меня сопровождаемым моей новой подругой, которой я тотчас дал имя Луизон. Она ходила за мной по улицам, точно молодая собака.
Через восемь дней после того я снялся с якоря, увозя с собою мою тигрицу, никогда со мною не разлучавшуюся. Однажды ночью вблизи острова Борнео она спасла мне жизнь. Мой бриг был застигнут полным штилем в трех лье от острова. Около полуночи, так как вся моя команда, состоявшая всего из двенадцати человек, уже спала, сотня пиратов внезапно проникла на палубу моего корабля, убив и бросив в воду стоявшего у руля сторожевого матроса. Это убийство произошло без малейшего шума и так быстро, что никто не мог броситься на защиту несчастного. Тотчас после того пираты бросились к двери моей каюты, намереваясь взломать ее. Но Луизон спала внутри каюты, около моей кровати. Шум разбудил ее, и она начала грозно рычать. Через две секунды я уже был на ногах с револьвером в каждой руке и держа в зубах абордажный топор. В тот же момент пираты, взломав дверь, ворвались в мою каюту. Первый приблизившийся пал с размозженной выстрелом головой; за ним был убит другой. Третьего задушила Луизон. Я раскроил ударом топора череп четвертому и выскочил на палубу, сзывая своих матросов. В это время Луизон совершила чудеса. Одним прыжком она свалила на пол трех малайцев, погнавшихся за мной. Вслед за тем одним прыжком она влетела в кучу малайцев и работала с быстротою молнии. В две минуты она растерзала шесть пиратов. Несмотря на то что она много потеряла крови от трех ран, Луизон продолжала сражаться столь же яростно и прикрывала меня своим телом.
Наконец появились мои матросы, вооруженные револьверами и толстыми полосами железа. С этого момента участь пиратов была решена. Моментально двадцать пиратов были сброшены в реку. Остальные сами бросились в воду, спеша вплавь добраться до своих баркасов.
Оказалось, что мы потеряли всего одного человека, именно рулевого. Можете себе представить, как я ухаживал за Луизон и с какой заботливостью перевязывал ее раны. После этой ночи, когда она заплатила мне долг свой, дружба наша была не на жизнь, а на смерть и мы никогда не разлучались, а потому, господа, прошу извинить меня, что я осмелился привести ее сюда. Я оставил ее в передней, но швейцар, вероятно, увидев ее, испугался, запер двери и распорядился бить в набат, призывая на помощь.
– Все это, милостивый государь, – сказал президент спокойно, – не оправдывает вас, так как по вашей вине или по вине мадемуазель Луизон и швейцара нам пришлось провести так много времени в обществе свирепого животного, причем наш обед остыл…
При этих словах господин президент Академии наук и города Лиона был прерван необычайным шумом. Послышался бой барабанов, и все академики смотрели в окна.
– Да будет благословен Бог! – воскликнул несменяемый секретарь. – Явилась военная сила, и мы близки к освобождению.
Действительно, три тысячи человек переполнили площадь и смежные улицы. Отряд пехоты находился в авангарде и, стоя против академии, заряжал ружья.
Вдруг комиссар полиции, опоясанный трехцветным шарфом, выступил вперед и, сделав знак барабанам замолкнуть, сказал громким голосом:
– Во имя закона, сдайтесь!
– Господин комиссар! – закричал президент из окна. – Речь идет не о сдаче, а о том, чтобы были открыты двери.
Тогда комиссар подал знак слесарям, которых он захватил с собою из предосторожности, узнав, что швейцар академии всякими способами забаррикадировал двери. Когда это приказание было выполнено, офицер, командовавший отрядом, крикнул:
– Ружья наготове!
Он приготовился расстрелять Луизон, как только она появится.
– Господа! – сказал Коркоран академикам. – Теперь вы можете выйти отсюда. Когда вы будете в безопасности, я выйду вместе с Луизон, так что вам нет оснований чего-либо опасаться.
– Будьте в особенности осторожны, капитан! – сказал президент, пожимая Коркорану руку и прощаясь с ним.
Академики поспешно ушли. Луизон изумленно на них поглядывала и, по-видимому, готова была броситься им вслед, но вовремя была сдержана Коркораном.
Как только они остались вдвоем, капитан подал знак тигрице войти обратно в зал заседаний, а сам подошел к крыльцу, чтобы поговорить с комиссаром.
– Господин комиссар, – сказал он, – я тотчас тихо и спокойно уведу отсюда мою тигрицу, если мне пообещают не сделать ей ни малейшего зла. Обещаю вам тотчас отправиться с ней прямо на мой пароход, находящийся у берега Роны, и обязываюсь запереть ее там в моей каюте, так что она никого не обеспокоит и никого не испугает.
– Нет, нет! Тигра надо убить! – вопила толпа, радовавшаяся при мысли увидеть охоту на тигра.
– Отстранитесь, сударь, в сторону! – крикнул комиссар Коркорану.
Капитан снова попытался уговорить оставить в покое тигрицу, но не мог убедить непреклонного представителя власти.
Тогда он решился на другое средство. Он наклонился над Луизон и нежно ее обнял. Можно было подумать, что он что-то шептал ей на ухо.
– Когда же вы покончите со всеми этими нежностями? – спросил офицер.
Коркоран, поглядев на него весьма враждебным и не предвещавшим ничего доброго взором, ответил:
– Я готов; но прошу вас не стрелять, пока я не выйду отсюда и не буду вне выстрелов. Я не желаю видеть, как на моих глазах злодейски убьют единственную мою подругу.
Просьбу его нашли заслуживающей уважения, и некоторые даже начали сочувственно относиться к Луизон. Коркоран, таким образом, спокойно сошел вниз по лестнице на улицу. Луизон, притаившись за дверью залы, видела, как он ушел, но не высовывала головы, по-видимому догадываясь об угрожавшей ей опасности. Прошел момент мучительного, ужасного ожидания.
Вдруг Коркоран, уже миновавший отряд солдат и бывший позади него, очень быстро и внезапно повернувшись, громко крикнул:
– Луизон! Луизон!
Услышав этот возглас, услышав этот призыв, тигрица моментально и одним прыжком очутилась на улице.
Прежде чем офицер опомнился и отдал приказание стрелять, Луизон другим изумительно быстрым и ловким прыжком перескочила через головы солдат и быстрыми шагами пошла вслед за Коркораном.
– Стреляйте! Стреляйте же! – завопила испуганная толпа.
Но офицер стрелять не позволил, так как, чтобы попасть в тигрицу, солдатам пришлось бы ранить и даже убить очень многих в толпе. Благодаря этому счастливому обстоятельству удовольствовались тем, что шли вслед за Коркораном и Луизон до самой гавани, где оба они тотчас же переправились на пароход, согласно обещанию, данному капитаном.
На другой день капитан прибыл в Марсель и там стал поджидать инструкций Лионской академии наук. Эти инструкции, отредактированные самим несменяемым секретарем, вполне заслуживали бы, чтобы их сохранили для самого отдаленного потомства, но по несчастной случайности они были впоследствии брошены капитаном Коркораном в огонь, так что мы вынуждены с содержанием их ознакомиться из рассказа о подвигах знаменитого уроженца города Сен-Мало. Впрочем, достаточно будет упомянуть, что эти инструкции вполне достойны были как ученой академии, пославшей их, так и знаменитого путешественника, для которого они предназначались.
Глава IV
Встреча с Голькаром
Лорд Генри Брэддок,
генерал-губернатор Индостана, –
полковнику Баркли, резиденту,
пребывающему при особе Гольнара,
государя мараттов в Бхагавапуре на реке Нербуде
«Калькутта, 1 января 1857 г.
Отовсюду мне сообщают, что нечто против нас приготовляется и что приметили какие-то таинственные сношения между туземцами в Лукнове, Патне, Бенаресе, Деми, у раджпутов и даже сикхов.
Если вспыхнет какое-либо восстание и распространится в стране мараттов, вся Индия будет им охвачена в течение трех недель. Избегнуть такого положения дела необходимо во что бы то ни стало.
Следовательно, тотчас по получении сего Вы озаботитесь обязать Голькара под каким-либо предлогом обезоружить его крепости и передать в наши руки его пушки, ружья, снаряды и драгоценности. Таким образом, он окажется не в состоянии вредить нам, а его сокровища нам послужат залогом того, чтобы он, несмотря на все принятые нами предосторожности, не вздумал совершить какую-либо отчаянную попытку. Кстати, теперь сундуки компании пустеют, и это денежное подкрепление будет весьма полезно.
Если он откажется выполнить требуемое, это будет служить доказательством дурных намерений с его стороны, и в этом случае он не заслуживает никакого снисхождения. Тогда Вы тотчас должны принять командование 13-м, 15-м и 31-м европейскими пехотными полками, которые будут Вам переданы губернатором Бомбея сэром Вильямом Эксвелом вместе с четырьмя или пятью полками туземной кавалерии и пехоты сипаев. Вы должны произвести осаду Бхагавапура, и, какие бы условия он Вам ни предлагал, надо соблюдать полную осторожность. Самое лучшее, если бы он погиб при осаде крепости подобно Типпо-сагибу, потому что Индийская компания имеет чересчур много беспокойных вассалов и мы будем избавлены от необходимости выдавать пенсию людям, которые вечно будут нас ненавидеть.
Впрочем, я полагаюсь на Ваше благоразумие и осторожность, но только не теряйте времени, поспешите, потому что начинают опасаться взрыва и необходимо заблаговременно отнять у восставших как предводителей, так и оружие.
Генерал-губернатор Брэддок».Английский резидент полковник Баркли —
государю мараттов Голькару
«Бхагавапур, 18 января 1857 г.
Нижеподписавшийся признает своею обязанностью сообщить Его Высочеству государю Голькару, что до сведения его дошло, что Вы изволили приказать дать пятьдесят палочных ударов Вашему первому министру Рао, хотя никакой известный мне поступок последнего не мог представить оснований для такого жестокого обращения.