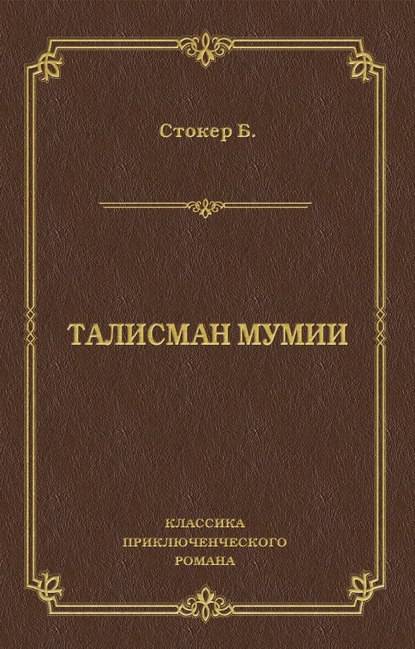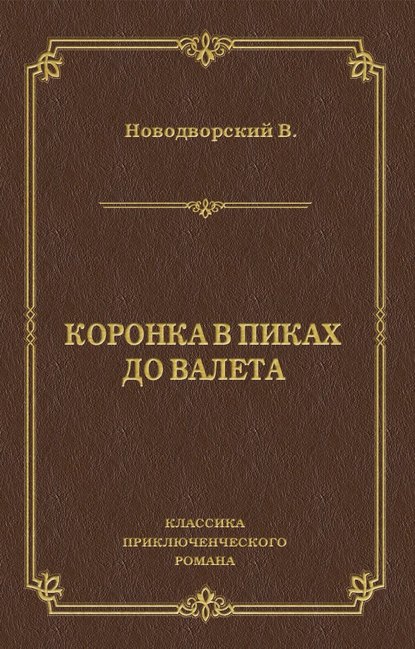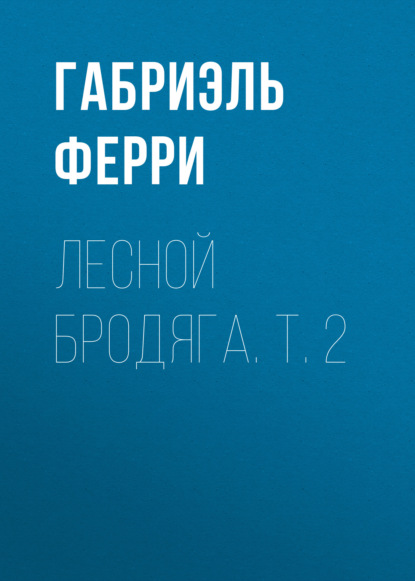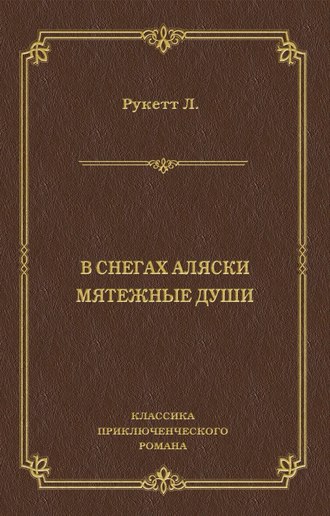
Полная версия
В снегах Аляски. Мятежные души

Луи-Фредерик Рукетт
В снегах Аляски. Мятежные души
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
В снегах Аляски
Темпесту, моему верному псу, который в моих скитаниях по Аляске своим чутким вниманием заставлял меня забывать о моих человеческих горестях.
Фредди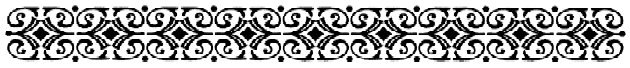
Глава I
Вместо вступления – описание одного визита
Вошел человек. Он удобно уселся в кресло, положил свою фетровую шляпу возле себя на ковер и сказал:
– Месье!.
Он произнес это слово «мейсье» – на английский лад, а потом добавил:
– Я – француз.
Я приветствовал его несколькими обычными фразами, но он остановил меня резким движением руки.
– Мне нужно вас благодарить, ибо вы человек очень занятой, а я вас беспокою. Знаю, знаю. Вот почему я постараюсь отнять у вас как можно меньше времени.
Литература, будь она французская, английская или другой страны, продается так же, как и горчица, вакса или сельди капитана Кука. Расклеивают афиши, бьют в барабан и кричат, складывая руки в виде рупора: «Эй, вы, прохожие, читайте роман господина такого-то! Это знаменитый человек. Его последний труд выдержал сто изданий по тысяче экземпляров». В зависимости от читающей публики, говорят еще так: «Роман такого-то – лучший из романов; старые девы, сельские священники и члены Христианской ассоциации молодых людей могут свободно его читать», или: «Роман этот старые девы, сельские священники и члены Христианской ассоциации молодых людей читать не должны».
Книги раскупаются в обоих случаях; одни приобретают их, чтобы получить здоровую, нравственную, годную для молоденьких девушек, литературу, другие – в надежде найти в них двусмысленные положения и фривольные описания.
Извините меня, но предки, – я имею в виду тех из них, кто в этом успел, – сняли в аренду все плакаты для реклам, все видные места, оставив для начинающих писателей только нижнюю часть стен, забрызгиваемую автомобилями и загрязняемую собаками, которые продолжают бродить по городу, несмотря на запреты полиции.
Я попытался вставить:
– Я не вижу, почему…
Энергичный человек перебил меня:
– Нет, вы видите, потому я и пришел именно к вам, что вы видите и можете уделить на плакате местечко и для товарищей, болтающих языком. Вы мне нравитесь. Десять минут назад я вас не знал, но представление, которое я создал себе о вас, не обмануло меня. Простите, я разучился говорить по-французски… Я хочу сказать, что вы представляете тот тип, который создало мое воображение на основании одного лишь вашего имени. Не случалось ли вам связывать… как бы это сказать… имена с физиономиями?
И, не дождавшись моего ответа, он продолжал:
– Ваши книги мне нравятся. Вы не разыгрываете из себя артиста, вы буржуа, нисколько не стыдитесь своего буржуазного происхождения и изображаете его таким, какое оно есть на самом деле. Вы могли бы, как и всякий другой, достигнуть «большого тиража» разными крайними приемами, но вы просто не захотели этого. Всевозможные академии вызывают у вас улыбку, вы не стали монополистом добродетели, вы не спекулируете на адюльтере – и это хорошо! Вы рады помочь тем, кто только начинает свою литературную карьеру – а это еще лучше! Да-да, я знаю… знаю! Не принимайте генеральского вида, так как, несмотря на вашу мраморную маску, я различаю за вашими очками глаза, которые сверкают… иронией? Нет, добротой. Вот почему я здесь.
И, точно желая подтвердить свое присутствие, он еще глубже опустился в кресло и, переставив ноги, продолжал:
– Кто я? Фредди. Да, конечно, у меня есть и другое имя, как у всякого из нас, но это неважно. Мне минуло тридцать шесть лет… – Тут он взглянул на часы-браслет. – Вот уже два часа тридцать пять минут тому назад. Но эти тридцать шесть лет я прожил с пользой…
Он замолчал на несколько секунд, точно предаваясь своим мечтам. Я воспользовался этим, чтобы как следует его разглядеть. Лампа ярко освещала его лицо. Однако не может быть, чтобы ему было уже тридцать шесть лет. Я дал бы ему двадцать восемь или, самое большее, тридцать. Но достаточно было всмотреться в него лучше, чтобы заметить костлявое лицо, впалые щеки, легкие морщины на висках… складку горечи у самого рта… Этот человек, видно, много страдал… На этом лице сохранили свою юную свежесть только губы, ярко-красные, казавшиеся ярче и краснее от бледности щек… Лоб, освещаемый лампой, говорит о живом уме, а глаза во впадинах век сверкают темным блеском.
Человек продолжил говорить:
– Но я пришел сюда не для исповеди и не буду рыться, как делал это Жан-Жак Руссо, в прошлом моей жизни, никому не нужном. Чем я занимался? Вспоминаю свою мать, говорившую: «Тысяча ремесел – тысяча несчастий», а отец мой тут же добавлял: «Да, заметь, все это только скорее позволит тебе подохнуть с голоду…» Мудрые слова?
Действительно, я занимался рисованием, скульптурой, слагал восьми- и двенадцатистопные стихи, воспевая солнце, птиц, цветы, весну, точно солнце нуждалось во мне, чтобы излучать свою славу, точно я нужен был птицам для их упоительных трелей, цветам – для очарования нашего взора, весне – чтобы заставить нас верить в счастье! Узкий кругозор небольшого города был для меня слишком тесен. Париж – вот это простор!
Вряд ли вы ждете от меня рассказов о том, как протекало время в этом огромном городе. Приходилось уже думать не о триумфах, а попросту о желудке. Погоня за франком! Это тоже своего рода чемпионат. Много ли я принял горя, холода и голода? Много, очень много… Ну да ладно!.. Все это было и былью поросло, а арабы говорят так: прошлое – мертво!
Тысяча ремесел – я прошел через них; тысяча бед – я изведал их.
Кем я был? Как это вам сказать?.. Я обходил редакции газет, чтобы поместить какую-нибудь статью. Я сочинял песни («У вас великолепно выходят стихи, дайте нам что-нибудь попроще… этак… в народном духе»), и когда я эту песню продавал (за пятнадцать франков), мне полагалось еще отчисление в шесть сантимов, когда какому-нибудь певцу угодно было включить ее в свою программу.
Театр – вот где мой конек! Да ведь одна моя пьеса была уже премирована и получила, словно животное на выставке, медаль, когда мне было шестнадцать лет!.. «Ваша пьеса, да… великолепно, отнесите ее господину имярек, который заключит с вами договор (половина авторских), затем четверть гонорара – в пользу режиссера, а другую четверть – директору». Я ставлю на ноль и все беру себе.
Я был секретарем… за всю свою жизнь я был много раз секретарем и не теряю надежды, что после моей смерти святой Петр зачислит меня в раю секретарем по отделу контрамарок!..
Секретарем театра (неизменно!): полтораста франков в месяц, четырнадцатичасовой рабочий день и директор, изрыгающий ругань так же просто, как иной говорит или дышит… Этакая откормленная скотина, которая как-то особенно закладывала пальцы в жилетный карман и произносила: «Я работаю на пользу Искусства!»
Секретарем сомнительных газет, потом секретарем одного аббата… да-да, настоящего аббата, который заставлял меня переводить Иоанна Златоуста, а платил мне жалованье когда придется. Он любил повторять: «Хорошо жить под епископским посохом». Но увы! Позолота его посоха потускнела! Человек этот сидел без гроша; не мог же он, в самом деле, красть деньги, чтобы платить мне жалованье!
Затем я создал трест из депутатов какого-то департамента – три депутата, два сенатора – за сто сорок франков в месяц, но выплата происходила тоже нерегулярно. Тогда я послал к черту Бурбонский дворец, надел блузу и поступил маляром в одну мастерскую… да, простым маляром… если хотите, просто мазилкой! Я выкрасил под дерево помещения целого банка, покрыл суриком двутавровые балки какого-то дома на одном из бульваров, покрыл огнеупорным составом решетку лифта метрополитена на станции «Барбес»… Работал своими руками, зарабатывал восемь франков в день… и был счастлив… Увы! У меня была своя слабость… Да, литературный микроб… Я бросил малярную кисть, взялся за перо и поступил в качестве «негра»[1] к одному из симпатичнейших наших писателей, который… которого… которому…
Если вас это интересует, то у меня есть и дипломы, как у всякого, и даже, возможно, больше, чем я того заслуживаю. Я написал два сочинения на ученую степень доктора экономических наук и три сочинения по медицине. Я продал всю эту работу по пятьдесят сантимов за страницу, что для «негра» считалось прекрасным вознаграждением. А потом, устав от беготни по Парижу с пустым желудком, я, чтобы проветрить свои мозги, объехал весь земной шар. «Я взял свой шанс»[2], как принято говорить у нас в Америке, и прогулялся от Радамеса до Агадира, видел оазисы юга с их пышными пальмами, спал в борджах[3] и в палатках, вечером, в Сахаре, внимал песне сокрара[4], подымавшейся словно дым фимиама в прозрачную высь, и интуитивно начал постигать все величие, всю таинственную красоту Простых Людей. Ах, как далеко было это от погони за заработком под вымазанным чернилами небом Парижа!
Я проник в Маракеш, красный город, окруженный тройным валом, и с высоты агадирской цитадели долго любовался океаном, колыхавшим свои зеленые воды, точно желая обольстить пламенную землю чернокожих…
Америка? Да, я только что оттуда и мне ли ее не знать? От Пунта-Аренас у Магелланова пролива до самого мыса Барроу, крайней точки Аляски… Чем только я там ни занимался!.. Словом, старая песня: тысяча ремесел, тысяча несчастий!
Я читал лекции о французской литературе, когда литературный микроб переходил в наступление. Бывало тоже, что я служил рудокопом на золотых приисках, погонщиком собак и проводником при санях.
Я был даже официальным представителем правительства республики на какой-то большой ярмарке, где-то там, на самом краю Дальнего Запада. Это было как раз во время войны. Так как семь комиссий, освидетельствовавших меня, признали меня негодным к военной службе, я занялся пропагандой; это было еще до вступления Америки в войну. Но вот пропагандой стали заниматься и люди, состоявшие на военной службе, которым благоприятствовал воздух Америки. Они, конечно, сразу заладили про меня: «Этакая дрянь, этакий паршивец! Караул! Чего он вмешивается не в свое дело?» Мне это дали ясно понять… Хор почтенных людей отпраздновал свою победу, по старинному обычаю, пляской скальпа. Во рту у меня было горько, как после обильной выпивки; я мог бы рассердиться, заняться мелкими дрязгами, которые всегда ходки, как разменная монета… Эх! К чему все это?
Я удалился в девственные пустыни Великого Севера. Там я действительно изведал покой души и тела. Жизнь была суровая, но зато я наслаждался и физическим и духовным здоровьем.
Вот, в сущности, почему я здесь. Возьмите эти несколько листов бумаги (разумеется, все тот же пресловутый микроб!); я заносил в них что попало в часы досуга и одиночества и в часы, полные горечи, когда отчаяние сдавливает мозг.
Вы прочитаете все эти записки… спасибо, но это еще не все. Видите ли, Париж со всеми его комбинациями и трюками – все это было хорошо, когда моему бренному телу было лет двадцать, а сейчас, нет… я все бросаю… да, и возвращаюсь к Великому белому безмолвию моей земли, которая умеет платить. Вы прочтете и увидите: раз она вами завладела, это уже навсегда… Я бы хотел…
Впервые, за все время разговора мой собеседник остановился, но после мгновенного колебания решился продолжать:
– Я бы хотел, что бы вы это напечатали… если это, конечно, можно… где-нибудь. Я об этом не узнаю, но тем не менее мне будет приятно. Если же вы найдете эту вещь малоподходящей, то в таком случае прошу вас забыть о моей затее и бросить в огонь эти никому не нужные листки.
Человек встал, взял свою рукопись, положил ее на стол, наклонился, чтобы поднять свою шляпу, и добавил:
– Имею честь кланяться…
Дойдя до двери, он повернулся и, отойдя от нее шага на три, сказал:
– Кстати, если вещь появится, не откажите мне еще в одной услуге… Я хотел бы, чтобы вы поместили на первой ее странице одно имя… Темпест… Кто это? Конечно, моя собака! Неужели вы можете допустить, что я стал бы посвящать свою книжку человеку!
Он пожал плечами и вышел.
Не во сне ли я видел всю эту странную сцену? Впрочем, рукопись здесь… Почерк не особенно четкий, нервный, почти неразборчивый. К черту этого идиота… Пусть не воображает, что я стану расшифровывать его каракули… ко всем чертям и его, и рукопись… И тем не менее я ее прочел, и в том виде, как я ее прочел, я предлагаю ее публике и умоляю читателей верить, что я не переставил в ней ни одной запятой, ограничившись только просмотром корректуры…
Глава II
Три встречи с Джесси Марлоу
Молодой человек, с которым я встречался в баре на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско, уверял меня, что на одном из островов архипелага Королевы Шарлотты обнаружены золотые россыпи. Однако, добавлял он конфиденциальным тоном, это хранится в тайне во избежание страшного наплыва искателей.
Расплатившись за эти сведения бесчисленными стаканами виски, я упаковал свой скудный багаж, что отняло очень мало времени, и собрался в дорогу, в северные края. Путь этот я совершил со многими остановками. Разве не было зашито у меня в поясе несколько сотен долларов, заработанных недалеко от Аллегана в Неваде?
Несколько дней я прошлялся в Портленде, городе роз. Затем в одно прекрасное утро я сел на поезд, направлявшийся в Сиэтл, где остановился на двое суток, чтобы обменяться сердечным рукопожатием с моим преданным другом Марселлой Ж., в душе которой столько же поэзии, сколько в цветущем кусте шиповника.
Кокетливая вилла в Сиэтле, где приютилось французское консульство. Перед дверью посреди небольшого сада высокий флагшток с трехцветным флагом на верхушке. Внутри помещения две маленькие гостиные, куда тонкий вкус хозяйки сумел перебросить всю грацию далекой родины. На стенах несколько тонко подобранных гравюр; на шифоньерке в стиле Людовика XIV выделяется фиолетовым пятном «Меркюр де Франс», а рядом с ним Фаррер со своими «Подружками». Рассеянно раскрываю книгу; мысли мои блуждают. Вдруг слышу за собой голос:
– Вы, вероятно, любите Фаррера?
– Очень.
Хозяйка смотрит на меня и говорит на английский лад:
– Я так и думала.
– Я люблю моряков. Меня привлекает все, что связано с морем. Мне так хотелось стать моряком.
– Это сожаление?
– Да, величайшее сожаление всей моей жизни.
– Вот так любовь!
– Да, это любовь, и чтобы удовлетворить ее, я обошел препятствие: раз не удалось сделаться матросом, я стал путешественником!
– Мне остается ценить это ваше призвание, которое позволяет нам видеть вас у себя. Ведь так редко бывает, чтобы к нам приехал кто-нибудь из Франции.
– Не рассчитывайте на меня, чтобы узнать о последних модах или последней сплетне. Если хотите, то я действительно приехал из Франции, но сделав предварительно недурной крюк через Техас, Аризону и Калифорнию. Завтра я уезжаю на Аляску.
После этого госпожа Ж. начинает говорить со мной о Париже, о том Париже, который она любит, о Париже литературном и театральном. Я вслушиваюсь в музыку ее голоса. Мой отвыкший слух поражают имена Демакс, Лавальер, Барте, Робинн. Все это точно нежное мурлыканье, которое убаюкивает мою душу, успокаивает и усыпляет ее…
Моя мысль останавливается то там, то здесь на каком-нибудь названии театра или заглавии книги. Это развертывающийся фильм, и я ясно вижу в нем картины и сцены… Но где же в таком случае знойная Аризона, которую я только что изъездил верхом вдоль и поперек, индейцы опи, такие гостеприимные и первобытные, Калифорния и мои добрые товарищи, работавшие со мной на приисках?
Кто же на самом деле переживает действительность? Она или я?
Но подходит консул и, улыбаясь, говорит:
– Не хотите ли коктейль, мой дорогой?
Коктейль? Вот те на! В таком случае я действительно нахожусь в Сиэтле, штат Вашингтон, у черта на куличках, на берегу Тихого океана!
Я отправился морем в Викторию, а из Виктории в Ванкувер, где мне посчастливилось сесть в самый день моего приезда на старый грузовой пароход «Авраам Линкольн», совершавший почтовые рейсы в архипелаге скалистых островов.
Переезд? Несколько бурный, как это бывает в этих местах, где приходится плавать по узким проливам, где ветер и море бушуют, гудя, как орган. Кое-как, и скорее плохо, чем хорошо, мы прошли Георгиевский пролив вдоль острова Ванкувера. Качать стало основательно, когда, миновав острова Скотта, мы вступили в воды Тихого океана, но «Авраам Линкольн», отплевываясь, отдуваясь и дребезжа, как лом железа на возу, огибает наконец оконечность мыса Сен-Джеймс и обходит остров Прево, оставляя слева фарватер Хустон-Стюарт и бухту Скинкетл. Нас еще изрядно потрепало в проливе Хуан-Перес, где, словно четки, рассыпаны скалистые, неприступные островки.
В Лайелле мы сбрасываем несколько мешков почты и после захода в Скеданс огибаем остров Луизы. Наконец я схожу в Кэмшове, расположенном на большом острове Морсби, в то время как мой старый «Авраам Линкольн» продолжает свой путь к Скайдгету, что на острове Грэхем, самом значительном из всех островов архипелага Королевы Шарлотты.
В Кэмшове золота оказалось не больше чем под копытом у осла. Несколько дней я прожил на свои сбережения и, пожалуй, умер бы со скуки, если бы не поступил на фабрику рыбных консервов.
Прослужил я там двенадцать дней. Один туземец из племени гаида, направлявшийся в Скайдгет, предложил мне ехать с ним. По рукам! Итак, в дорогу – на север! И вот я уже механиком на заводе, где топят тюлений жир. Я снова заработал несколько долларов, которые мне посчастливилось удвоить в покер, и опять берусь за свой посох, хотя это выражение и не особенно удачно, когда приходится перескакивать с грузового парохода на почтовый и с почтового – на пассажирский.
Гораздо легче попасть на остров Грэхем, чем выбраться оттуда. Все эти «Авраамы Линкольны» едва обеспечивают почтовую связь с берегом, но мне удалось переправиться через пролив Гекаты с попутчиками, ехавшими в Порт-Эссингтон в Британской Колумбии, чтобы пополнить свои запасы виски: операция, как известно, наисущественнейшей важности.
– Счастливо оставаться, товарищ!
И вот я один на деревянной пристани Порт-Эссингтона, в то время как мои друзья, налегая на весла, уходят в открытое море.
Твердо решено: сажусь на первое попавшееся судно, будь то грузовое, паровое или парусное, какой бы курс оно ни держало.
Семнадцать дней спустя «Принцесса София», принадлежащая Обществу каботажного плавания в Британской Колумбии, бросила якорь в Принц-Руперте, лежащем на правом берегу Скины, по ту сторону Порт-Эссингтона.
Судьба толкает меня на север. В путь-дорогу, стало быть, в страну безмолвия, страну таинственного, страну снегов и золота. Разве там не «pay-dirt» – «оплачивающая земля»? Но что именно оплачивающая? Волю? Настойчивость? И чем оплачивающая? Золотом, вырванным из твердых скал? Строгой красотой пейзажей или вызывающим восхищение северным сиянием?
Золотом или смертью? Тем или другим, а чаще всего тем и другим. Покоренное золото струится меж пальцев, как вода горного потока. Тихая смерть укладывает вас на белый саван полярных снегов. Тело погружается и исчезает в яме, а снег все давит, давит, давит. Снег превращается в лед. Следы саней остаются на нем, а жизнь неудержимо уходит вперед. Под снегом тоже лежат мертвые, а над ними в необъятной, беззвездной ночи, убаюкивая их треском ветвей, поет свою песню Великий Север, между тем как там, где-то внизу, ревут обезумевшие от страшного хохота волков карибу[5], которые внезапно по ветру почуяли присутствие врага.
Я погружен в эти мысли, сидя на своем багаже на палубе «Принцессы Софии», уткнувшись локтями в колени и обхватив голову руками. Винт парохода мерно ударяет по воде. Серый туман заволакивает берег, близость которого уже чувствуется. Пароход идет вдоль длинного лабиринта островов и извилистой линии берега. С правой стороны заснул, весь покрытый елями, остров Принца Уэльского, а с левой – ночь опускается на Кетчикон, красные и зеленые огни которого с трудом прорезают гущу тумана.
«Принцесса София». «Принцесса Мудрость». Мудрость ли это? Не безумие ли идти по этой дороге? Винт бьется, как сердце: «Флюк-флюк-флюк-флюк». Да? Нет? Новая жизнь открывается передо мной, и я вспоминаю стих Теренция: «День, открывший тебе новую жизнь, ищет в тебе и нового человека».
– Вы напрасно здесь сидите, молодой человек, – туман опасен для здоровья.
Я поднимаю глаза и встречаю взгляд женщины в широком сером пальто.
Она стоит, твердо упершись ногами, держа руки в карманах пальто с воротником, закрывающим шею, подбородок и рот; мягкая шляпа надвинута на лоб почти до самых глаз.
– Я – Джесси Марлоу, а вы?
– Я – Фредди.
– Фредди кто?
– Фредди, и больше ничего, просто Фредди.
– А!
Женщина, помолчав некоторое время, добавляет:
– Вам не следовало бы сидеть неподвижно, это всегда вредно в этих местах. Лучше пройдемтесь со мной.
И вот мы оба шагаем, как два старых товарища, по спардеку парохода.
– Вы здесь впервые?
– Да, а вы?
– Я – старая юконка. Эту дорогу я проделала уже пять раз.
– А едете вы…
– В Доусон, к мужу.
– А, вы замужем!
Тон, которым я произнес эти слова, заставил Джесси расхохотаться звонким смехом.
– Да, я жена Гарри Марлоу, сержанта Конной полиции.
Канадская Конная полиция! Блестящая организация, несравненная, если бы, конечно, не существовало Иностранного легиона. В Конную полицию зачисляются, как и в легион, только из прихоти или из любви к приключениям.
Великолепные экземпляры человеческой породы, преисполненные безумной отваги, – единственные представители британской власти от Гудзона до Аляски, во всю безмолвную ширь Великого Севера!..
Впоследствии, в течение моих полярных скитаний, я встречал их сотнями, то группами, то в одиночку, и всегда находил в них качества, создающие сильного человека: великодушие, прямоту, доброту и отвагу. И, как ни странно, сознание, что она, эта Джесси, принадлежит другому, хотя бы и сержанту Конной полиции, как-то больно ущемило меня.
Откуда это? И чего только не лезет мне в голову! Джесси Марлоу, о существовании которой я пятнадцать минут тому назад и не подозревал… а вот… Зато теперь я ее знаю. Вот и все!
Пароход сильно качает – прекрасный предлог, чтобы взять под руку мою спутницу, которая, впрочем, нисколько не сопротивляется.
Я чувствую сквозь пальто упругость тела и твердость мускулов. Мой друг Джесси Марлоу – гибкая и крепкая женщина.
Все сильнее я сжимаю ей руку.
– Спустимся на вторую палубу, там среди чечако есть прелюбопытные типы.
На юконском диалекте чечако обозначает всех вновь приезжающих на рудники для работы новичков: искателей золота и счастья.
Спускаемся вниз. Там в невероятном хаосе навалены динамо-машины, мешки, бочки, ящики, снасти, железные болванки, груда кирок и лопат, а кое-где в каком-нибудь углу копошатся живые существа, освещенные желтым светом масляной лампы, раскачиваемой морским волнением.
Ближе к середине более просторно. Сидя на опрокинутых ведрах, несколько человек играют в карты за импровизированным столом. Во время игры все молчат; жажда наживы наложила уже свою печать на все лица. Ее можно узнать по характерному нахмуриванию бровей и легкому дрожанию пальцев, сжимающих засаленные карты.
Человеческий порок здесь весь как на ладони, обнаженный и бесстыдный. Он зияет, как рана…
Я оборачиваюсь. Не знаю почему, но мне показалось, что в глазах моей спутницы какой-то хищный блеск. О, только блеск, быстро угасший. Мгновенный трепет ноздрей… О, еле уловимый!
Но я, несомненно, ошибся, ибо Джесси Марлоу говорит с равнодушным видом:
– Здесь можно задохнуться. Страшно накурено! Пойдемте отсюда, дорогой.
Утром я поднимаюсь на палубу. Джесси уже там, облокотившись о перила. Она угадала мое присутствие и оборачивается ко мне. На лице ее тревога. Она обращается ко мне и без всяких вступлений произносит:
– О, посмотрите, дорогой мой мальчик.
Я вглядываюсь. В синеве тумана показывается один из самых фантастических пейзажей.
Берег уже близок, и мы лавируем между островами Элтслин и Принца Уэльского: это страшные громады утесов, длинные цепи трахитовых скал, гигантские базальтовые дороги. Здесь перед нами наглядное подтверждение великих геологических законов, оставляющих далеко за собой жалкое поэтическое воображение эллинов и их титанов, нагромоздивших Пелион на Оссу, – детская забава по сравнению с той хаотической картиной, которая развертывается перед нами!
Чтобы противостоять нахлынувшему морю, Земля, в сверхъестественном усилии, скорчила свое тело и выбросила из него вулканические скалы, которые лежат здесь нетронутые, обнажая первобытный гранит. Ровные пласты, острые разрывы, резкие выступы, и горы, высящиеся на сотни и сотни футов, как в первый день создания мира, когда они выступили из недр земли, чтобы сказать Океану: «Стой! Дальше ты не пойдешь!».