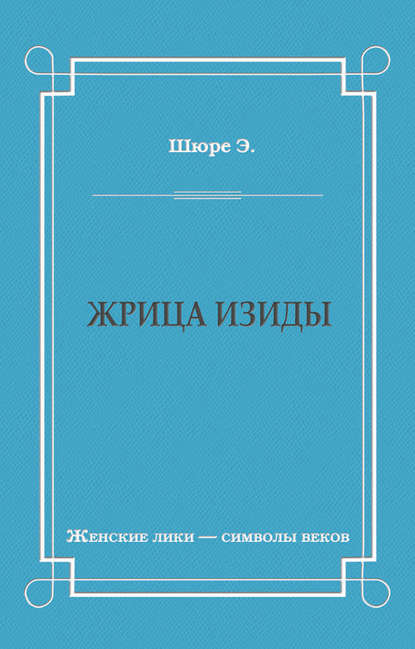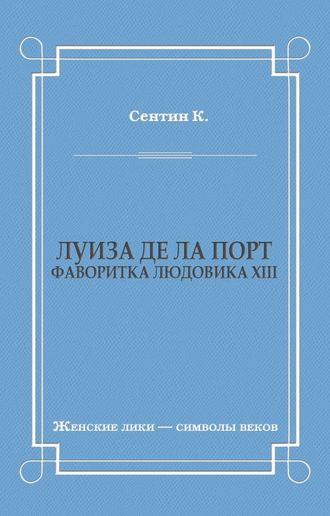
Полная версия
Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)
– Я вовсе не нападаю на ла Файетт. Виновата ли она, что король находит ее еще более хорошенькой в ее монашеском уборе? Так, видимо, надо думать, судя по частым посещениям им Благовещенского монастыря за последние десять месяцев. Это очень тревожит кардинала, говорят, он собирается принять меры.
– Кардинал этим встревожен! – воскликнула вдовствующая герцогиня, с неподдельной радостью скрестив руки. – Хотя я и христианка, но весьма буду рада, если ла Файетт удастся настроить короля против него. Не он ли, чтобы угодить иезуитам, засадил в Бастилию бедного моего аббата Сен-Сирена? Удивляюсь, как Франция не восстала еще в негодовании!
– Берегитесь, герцогиня ла Ферте, – д’Отфор, как бы в виде угрозы, поднесла указательный палец к губам, – вы проповедуете бунт!
– Нет… что ж, это был бы бунт добра против зла – восстание против сатаны! Ла Файетт уже пыталась… на сей раз ей, быть может, удастся, и тогда…
– Ла Файетт на все способна, – прервала насмешливая д’Отфор, – ведь ей удалось уже примирить короля с королевой. Правда, примирение это оказалось недолгим.
– Ах, кстати, миленькая, расскажите-ка мне, каким образом произошла эта мировая? Не говорила ли вам чего-нибудь об этом сама королева?
– О, это престранная история, никому не решусь рассказать, кроме вас, зная вашу скромность.
– Да, я не болтунья, с этой стороны вам опасаться нечего!
– Но мне известно также, – прибавила колко хорошенькая фрейлина, – ваше отвращение к злословию, и в этой истории король, скажу вам, играет роль довольно странную…
– Так вы объявили ему войну насмерть сегодня вечером? Что за беда! – возразила нетерпеливая вдова ла Ферте. – Но, конечно, вы воспользуетесь его снисхождением, не так ли?
– Это нелегко… и притом же аббат Сен-Сирен в своей книге…
– Ах, боже мой, да начинайте же ваш рассказ! – проговорила с нетерпением герцогиня.
Собеседницы придвинули кресла ближе друг к другу; герцогиня протянула к камину ноги, поправила подушки, уселась в них еще глубже, расположилась удобнее, чтобы слушать, и д’Отфор продолжала:
– Вы помните, конечно, тот день, когда король, о котором думали, что он отправился на охоту в Версаль, показался вдруг со своими мушкетерами в Сент-Антуанском предместье? Королева узнала об этом уже поздно вечером, при отходе ко сну; и дежурная камер-фрейлина, не окончив еще расчесывать ей волосы, ибо голова королевы завита редкими фестонами кругом и напудрена…
– Да разве королева переменила прическу?! – Герцогиня даже немного приподнялась в кресле.
– Переменила – вот уже восемь месяцев и две недели, как носит букли, – отвечала, улыбаясь, д’Отфор, удивленная тем, что немолодая ее подруга, давно оставившая двор, принимает столь живое участие в переменах, происходящих в моде, – ведь они всегда, как и в наше время, были так часты и неуловимы.
– Заканчивайте же ваш рассказ, моя милая! – И герцогиня, как бы несколько устыдившись своего движения, приняла прежнюю позу.
– Наконец все разъехались, кроме фрейлины Шемеро и меня. Королева, оставшись с нами, могла откровенно говорить о том, что ее занимало. Разговор шел о посещении королем Благовещенского монастыря, но ее величество была против обыкновения скучна, – может быть, из-за новых неприятностей, причиненных ей кардиналом, или погода на нее действовала: шел проливной дождь.
– Это правда, погода нынче стоит прескверная, даже сам аббат Сен-Сирен заметил это – по своей подагре, снова стала беспокоить.
Мадемуазель д’Отфор, умолкнувшая на время, начала снова, не позволяя более прерывать себя то набожными, то светскими рассуждениями:
– Итак, мы остались одни: королева, мадемуазель Шемеро и я. Ее величество надела ночной костюм, я помогала ей снять чулки. В это время мы услышали шум алебард в одном из передних помещений дворца, где находится караул из ста солдат швейцарской гвардии. Вдруг мы увидели короля: согласно правил этикета он вошел без доклада в комнату супруги. Никто не ожидал этого посещения – ведь отношения между супругами с давнего времени прекратились. Испуганные, мы остались неподвижны: я – на коленях перед королевой, королева – сидящей с поднятой ногой, я как раз кончала снимать ей чулок. Мадемуазель де Шемеро мешала в камине угли и так и оставалась сидеть на полу, с поджатыми ногами и щипцами в руках. Впрочем, короля так же стоило бы нарисовать в эту минуту, как и нас. Он был чрезвычайно пасмурен и угрюм, все в том же костюме, не снял даже перевязи с охотничьей шпагой, а перья шляпы, отяжелев от сырого воздуха, свесились на лицо. После молодецкого вступления в комнату остановился как вкопанный посреди нее, с изумлением взглянул на нас – и не произнес ни слова…
Наконец Шемеро отошла от камина, я сняла чулок королеве и все мы быстро встали как по команде, чтобы приветствовать поклоном его королевское величество: я – с чулком в руке, мадемуазель де Шемеро – с щипцами, а королева – с босой ногой, ибо другая нога ее была еще не разута.
Король все еще ничего не говорил. По сделанному королевой знаку мы удалились, и, когда я поцеловала ей руку, она сказала мне вполголоса: «Я не досадую – он пришел, конечно, ссориться со мной, но я чувствую себя в силах возражать ему». Всю ночь не могла я спать – боялась, что между августейшими супругами произойдет сильная ссора!
Король, как я позже узнала, сначала жаловался королеве на своего брата Гастона Орлеанского, говорил о возмущениях, возбужденных недавно в королевстве по его наущению графом Суассонским, герцогом Монморанси, графом Шале; вспомнил о мятежах в Гиени и Лангедоке. Королева смело свалила всю вину на кардинала и жаловалась в свою очередь на жестокое обращение с ее прислугой, невозможность свою быть с кем-либо в переписке – письма ее всегда перехватывались – и на свое уединение в Вал-де-Грасе, которым, подобно неприятелям, насильственным образом завладели агенты кардинала.
Король, несмотря на свой мрачный и суровый вид, пришел к Анне Австрийской вовсе не ссориться, в доказательство чего пытался дать совершенно иное направление разговору, беспрестанно твердя одно: пора наконец прекратить злонамеренные действия Гастона, разбить его надежды на завладение престолом, уничтожить мятежников, упрочить будущность трона. Все яснее давал он понять, что с другим намерением явился к королеве, – вмешивал в свою речь ласковые, приветливые слова. Но – злосчастна его звезда от рождения – всякий раз, как старался принять тон более мягкий, заикание, которое нередко проявлялось, препятствовало ему выражаться свободно и он не выговаривал начатых слов, что бесило его и он еще больше заикался. Стараясь устранить по мере возможности этот недостаток, король подбирал слова, которые ему легко произносить, и в результате оставались одни жалобы и упреки.
Королева потеряла наконец терпение и решила не оставаться в долгу, тоже облегчить душу – выразить все чувства, ее волновавшие. Тогда буря стала подниматься между супругами, угрожала разразиться страшная гроза, но тут пришли спросить его величество, какие угодно ему отдать приказания насчет отхода ко сну. «Я остаюсь здесь!» – произнес он скороговоркой. Королева изумилась при изъявлении такого желания. «Ну, вот что я собирался целый час сказать вам», – прибавил он, потупив глаза. Итак, король остался ночевать у королевы… и тем спас Францию от анархии. И д’Отфор заключила свой рассказ смехом.
На этот раз герцогиня от души последовала ее примеру, и тут на часах в доме ла Ферте пробило полночь. Обе собеседницы, искренне удивленные, что уже так поздно, посмотрели с несколько притворным испугом друг на друга и стали приготовляться ко сну. Герцогиня исполнила должность горничной, помогая мадемуазель д’Отфор раздеться, и, когда та легла, начала, как сама говорила, совершать свой последний тур по комнате – как бы некоторый моцион, перед тем как идти спать.
Перекрестившись, она смочила кисточку в кувшине со святой водой и окропила постель, мебель и все углы; потом стала на колени перед образами, поставленными на столе у окна, выходившего на маленькую улицу, и принялась молиться с молитвенником в руках. Мадемуазель д’Отфор уже спала, госпожа де ла Ферте все еще молилась, и под действием то ли сна, то ли экстаза ей послышался чей-то голос, будто выходящий из стены.
– Слава Великому Гедеону! – кричал этот громкий, несколько отдаленный голос.
– Слава Великому Гедеону! – повторила герцогиня. – Слава Гедеону, отцу Авимелеха, победителю Мидианитян, израильскому судье!
Потом вдруг послышался ей ужасный шум: сатанинский смех, проклятия, неистовые крики… Она открыла глаза, отвлеклась от своего экстаза и прислушалась внимательнее: шум доходил с маленькой улицы, идущей вдоль дома ла Ферте, позади него. Подошла к окну и подняла занавески: кошмарный хохот, песни, крики усиливались… Богомольная вдова почувствовала мгновенно, как сильная дрожь пробежала по телу. «Это какие-то злоумышленники! Задумали, видно, вломиться в мой дом и разграбить его!» – пришло ей в голову.
Эта мысль расширялась в перепуганном воображении, с каждой минутой страх усиливался. Не тревожа сна молодой девушки, взяла свечу и прошла в комнаты сына, герцога Генриха ла Ферте (именно он в будущее царствование Людовика XIV стал маршалом Франции). Как же она поразилась, найдя комнату сына пустой, постель – оставленной в беспорядке, и еще веревочная лестница спускалась из отворенного окна, выходившего на маленькую улицу… Бедная герцогиня чуть не лишилась в этот момент рассудка.
Позвонить своим людям, поднять всех на ноги, послать одного за управляющим, другого – за полицейским комиссаром, третьего – за начальником ночной стражи – все это заняло у нее несколько минут, после чего она лишилась чувств.
Однако неимоверный шум, раздававшийся в комнатах дома с двух сторон одновременно, разбудил-таки мадемуазель д’Отфор; она протерла глаза, поднялась с постели и подошла к окну, ярко освещенному снаружи. Перед ней в большом великолепном светлом зале проступили как в тумане тени человеческих фигур… Подобно герцогине, она почти поверила в видение, так как потревоженный сон не вполне ее оставил и мысли еще не прояснились.
Всматриваясь в окна соседнего дома, увидела: в середине зала – широкий, покрытый скатертью стол, уставленный блюдами с кушаньями, от них поднимается пар. Свет множества зажженных свечей отражается в драгоценном хрустале… Несколько десятков мужчин и женщин с громкими возгласами и хохотом чокаются высокими стаканами, все порядочно пьяны. Одни обхватили рукой талии соседок, другие, склонясь к ним на плечо, любезничают и, кажется, готовят более поцелуев, чем нежных слов и комплиментов. Все участники застолья среди всеобщего веселья и радости, без сомнения, взаимно расположены к удовольствиям и любви…
Кто сказал бы когда-нибудь этой благородной, гордой девушке, что ей придется стать свидетельницей распутной пирушки у мадам ла Невё, известнейшей в то время спекулянтки (Буало упоминает о ней в своих стихах). Причина веселого пиршества – новоселье мадам Невё. Чтобы дать более свободы гостям, избавить их от дневного жара – день был знойный, – она назначила у себя праздник ночью. Но ведь шум услышат на улице… решили не открывать окон – все задыхались в душном, спертом воздухе от винных паров и жара зажженных свечей. Но Великий Гедеон (такое имя присвоили главе пира), несмотря ни на какие возражения, приказал окна отворить, объявив наиболее противившимся: «Скандал – тем лучше: празднуем еще веселее!»
Мадемуазель д’Отфор пристально вглядывалась не только в лица женщин, разумеется ей незнакомые, но и мужчин и многих узнала. Относительно некоторых смело поручилась бы, что они ей знакомы. Это они, она их видит! «Конечно, это сон! – говорила она самой себе, чувствуя в сердце печаль и сострадание. – Ведь я тут вижу маркиза де Жевр, а он в отсутствии, его нет в Париже, наверняка нет! Он из-за меня изгнан из Парижа, я – причина его ссылки! И вот он здесь… о, нет, нет, это невозможно, я ошибаюсь! А там кто? Да Генрих ла Ферте, герцог Генрих ла Ферте… я у его матери!.. Да, и он тут… он дома и уже спит… так-так… А тот, другой? О, столь могущественное лицо, знатная особа! Но его тоже нет теперь в Париже… невозможно, чтобы это был он! Нет, это мечта, бред… мои глаза после сна видят не совсем ясно…» И, желая удостовериться, что всю картину наблюдает в действительности, а не во сне, провела руками по лицу и волосам и отошла от окна; потом снова приблизилась к нему, протерла глаза… Удостоверясь в истинности всего зрелища, смело вывела по своему обыкновению трезвое о том заключение и с улыбкой вернулась к своей постели. Сон скоро вполне овладел ею, несмотря на беспокойство и взволнованные мысли, – такова уж была мадемуазель д’Отфор.
Глава IV. Великий Гедеон
Пробило три часа ночи, пир у мадам ла Невё еще продолжался – уже не праздник веселья, но торжество разврата и соблазна; тут не кричали, не пели теперь, а выли, рычали, подобно волкам или другим диким зверям. Лица у пьяных гостей то болезненно-бледные, то красные; глаза у кого мутные, у кого блестящие; кругом опрокинутые или разбитые бутылки; скатерть облита красным вином. Опьяневшие женщины, как бы для поддержания роли, свойственной своему полу, громогласно восхваляли вино, любовь и мужчин среди шума и гама пирующей компании; ну а мужчины, разгоряченные вином, мужественно сопротивлялись его действию. В одном углу комнаты множество наваленного одно на другое верхнего платья: плащи, мантильи, накидки, береты, токи с перьями, шарфы разных цветов из всяких материй; в другом углу несколько мужчин позволили себе вольное обращение с женщинами. Там, подальше, – игроки: сидели по-турецки с поджатыми ногами среди карт и золота, рассыпанного на скамье… звучали хмельные клятвы, уверения в любви; тут поцелуи, рядом ссоры, брань, застольные песни… Такова была в ту ночь картина в доме мадам ла Невё.
Глава пира, усталый, изнеможденный, пресыщенный вином, ослабевший телом, уже около часа спал на кровати в одной из смежных с залом комнат. Быть может, усиление скандала, шума, грома, хохота и неистовых восклицаний следовало приписать отсутствию Великого Гедеона: при нем общество как будто несколько воздерживалось – таково было почтение к достойному гуляке. А теперь он один, наверно, из всех живущих по соседству, безмятежно спал среди всего этого адского грохота, который к тому же еще усиливался.
В разных частях улицы жители домов, испуганные шумом, не понимали, что происходит около них и, встав с постелей, высовывали головы из окон и в свою очередь кричали изо всех сил: «У нас воры!.. Разбойники!.. Грабеж!..»
Через некоторое время рядом послышался лошадиный топот; заметались зажженные факелы – свет их отражался в касках: это прибыли солдаты, которых ежедневно посылали по очереди в ночной объезд; на лошади старшего сидел позади него пристав городской полиции – полицейский комиссар. Солдаты подъехали к дверям дома, откуда доносился шум, и принялись стучать, ломиться в двери, требуя именем короля, чтобы их впустили.
В окошке показался человек с красной тесьмой в руке; лицо его было спокойно; он знаками потребовал внимания, показав, что хочет говорить. Пристав со своей стороны заявил, что слушать следует его. Наступило молчание; тогда показавшийся в окне гуляка начал громким голосом петь на стихи поэта Сент-Амана:
Подать мне красного винаБутылку, да непочатую!Как жажда у меня сильна!Вмиг шейку ей сверну крутую,Тотчас отдам ее пустую!Я в честь пирушки сей сыгратьХочу Пантея смерть – смотрите!Но не его хочу заклать,А борова того – глядите!Жестом указал на полицейского комиссара и продолжал:
Но что я, ах, ведь это глазОбман, – как будто бы спросонок:С презрением таким на насГлядит не боров, – поросенок!И перед концом третьего куплета, как бы показывая пример возлияния в честь богов, он опрокинул бутылку и вылил вино прямо на голову полицейскому чиновнику – тот, задрав подбородок, его слушал. Взбешенные солдаты тут уж без обиняков потребовали их впустить и, предшествуемые приставом – с него ручьями текло вино, и он вытирал лицо полой камзола, – бросились к лестнице. Испуганная служанка отворила им дверь, и ее тут же арестовали.
Первое помещение, куда вошли солдаты, – тот самый зал, где происходила пирушка. Там оставались из всего общества только женщины; при виде солдат они прижались друг к другу, бледные, с дикими, блуждающими взорами и, онемев более от страха, чем от неумеренного употребления вина, не могли произнести ни слова в свою защиту. Тотчас их всех забрали; в это время подошли ночные сторожа разных соседних мест, как бы в подкрепление солдатам, и им поручили вежливым образом отвести этих нарядных красавиц в госпиталь. Полицейский пристав, или комиссар, направился ко второй двери; на пороге встретил его мужчина величественного вида в коротком испанском плаще, украшенном богатым шелковым шитьем; в изысканно вежливых придворных выражениях он пригласил пристава войти в комнату, но попросил запретить это сопровождавшим его. Пристав согласился, приказав солдатам в случае надобности быть готовыми явиться на его призыв. Те, оставшись в зале, где еще не убрали со стола, почувствовав внезапно аппетит, принялись уничтожать остатки ужина – надо же чем-то заняться.
Вслед за своим проводником комиссар вошел в другую комнату и увидел на измятой постели какого-то господина, одетого весьма небрежно, в одной рубашке, который, заметив его, начал петь:
Вот по причинам, но каким –Знать никому не подобает,А потому и мы молчим, –Король нам петь не дозволяетЛихую песню лантюрлю!Лантюрлю! Лантюрлю! Лантюрлю!– В каком состоянии этот несчастный! – проговорил полицейский комиссар с видом некоторого сожаления и обратился к этому новому певцу: – Кто вы? И что вы здесь делаете? Ну же, отвечайте, молодец!
Тот, приподнявшись с трудом на ноги, ибо был пьян, пробормотал едва слышно, но с важностью:
– Кто я?.. Я – Великий Гедеон! Я пел… лантюрлю! – И снова повалился на кровать.
В это самое время из соседней комнаты показался прежний певец, подошел скорыми шагами к своему начальнику и затянул второй куплет песни:
Вот скоро королева-матьСюда в Париж к нам подоспеет,И принц, брат короля, сказатьТогда и слова не посмеет;Все будет тихо, говорю,Не пели б только лантюрлю!– Какая дерзость! – возмутился комиссар. – Петь песни про королевскую фамилию!
Вошел третий и подхватил куплет второго:
Послы от всех почти державК нам ныне часто приезжают:Торжественно пред троном став,Все жалобами докучаютОни своими королю,Что слышат всюду: лантюрлю!Лантюрлю! лантюрлю!– Каково! Насмехаться даже над иностранными державами! – проговорил комиссар.
Явился четвертый и продолжил:
Как жалобы свои послыКрасноречиво изложили!И безбоязненно ониВ глаза правительство бранили.Что было делать королю?Он отвечал им: «Лантюрлю!»– «Лантюрлю»! – воскликнул до крайности раздраженный пристав. – Это ужас! Приписать подобное выражение его величеству королю Франции!
Пятый, не отставая от приятелей, начал вслед за четвертым петь следующий куплет:
А наш добрейший кардинал,Боясь беды от этой ссоры,Для них все сделать обещал,Чтоб прекратить лишь разговоры.Потом, оборотясь к Ботрю,Сказал ему вслух: «Лантюрлю!»– О, они даже и к кардиналу не имеют почтения!
Шестой последовал примеру пятого и подхватил:
Об этом деле известилНаш нунций папу; то узнавши,Отец святой наш огласилВесь Рим, как бы шальной вскричавши,В том подражая королю:«Лантюрлю! Лантюрлю! Лантюрлю!»– «Лантюрлю»! «Лантюрлю»! Запрятать вас бы всех в тюрьму! – проговорил полицейский чиновник, напевая на мотив песни, хотя был сильно взволнован от гнева.
Наконец шестой заключил:
Министр, чтоб Францию от бед,Ей угрожающих, избавить,Велел ко всем дворам ответТотчас же письменный отправить,И вот какого содержанья:«Лантюрлю! Лантюрлю! Лантюрлю!»И все хором повторили: «Лантюрлю!» после того как остальные вошли процессией в комнату, занимаемую Великим Гедеоном, и встали в два ряда, один напротив другого, у его кровати.
– Какое войско, подумать только! – изумился пристав. – Но будь вас здесь хоть сто человек, вы от меня не уйдете, негодяи! У меня вон там двадцать солдат, чтобы вас образумить! – И всмотрелся пристальнее в певца последнего куплета, который сам глядел на него с дерзкой, насмешливой улыбкой: – А, вот тот самый, который вылил на меня из окна вино! Как твое имя?
Тот, кому он задал этот вопрос, принял гордый вид, улыбнулся, закрутил вверх усы и с важностью отвечал:
– Я Жан-Пьер де Марильяк – вот мое имя! Клянусь Бахусом, что не отопрусь от него за стакан вина… который бы не выпил!
– Черт возьми! Откуда он украл это имя? – проговорил сквозь зубы комиссар, записывая его первым на своем листе.
– А твое? – снова начал он, подходя поочередно к певцам.
– Гуго Роберт, барон де Монтморен! Я так же не отопрусь от своего звания, как и Марильяк.
– Тебя как зовут?
– Генрих д’Эскар де Сен-Бонне, синьор Сент-Ибаль!
– Гм, синьор! – повторил с насмешкой пристав. – Дворянин вроде Готье-Гаргиля, не правда ли? Шутник ты эдакий! Нет нужды, все равно! Вы скажете про себя вернее, когда вас засадят в тюрьму. А твое имя как, неуклюжий?
– Людовик д’Астарак, виконт де Фантрайль, недоучка!
– Хорошо, потом… ну, ты, смельчак! Вишь все какие именитые! Говори же свое имя!
– Франциск де Поль де Клермон, маркиз Монгла!
– О! Далее.
– Я – Леон Потье, маркиз де Жевр!
– Так, теперь уже и маркизы пошли! – пожал плечами комиссар. – Да что это вы, молодцы! Разве мы здесь для того, чтобы выказывать себя один перед другим? Какой жалкий маскарад! А вы, – прибавил он, обращаясь к следующему, – пари держу, что вы герцог.
– Именно так: Роже дю Плесси, герцог Лианкур!
– А я герцог Рандо, наследный принц Бухский, маркиз Сенесей, граф Беножский и Флейский!
– Я герцог ла Рошфуко, принц Марсильяк, маркиз Гершвиль, граф де ла Рош-Гюион барон де Вертёль!
Еще один, гордо подняв голову и приняв театральную позу, отвечал так:
Королем быть не могу,Принцем не хочу.Я – Роган!– Как, Фонтене де Роган-Роган?!
Бедный комиссар пришел в немалое удивление: до его недоверчивого слуха доходили знатнейшие фамилии в королевстве, и он дивился одному – как этим господам удается безошибочно произносить титулы и звания известнейших особ во Франции, и ни разу не оговориться…
По мере того как узнавал имена этих людей, с которыми имел теперь дело, он убеждался в ошибочности своего мнения о них; в наружности их, хоть они и изнурены кутежом, равно, в изысканности одежды, чаще темных цветов, было нечто благородное, доказывавшее знатность происхождения. Сомнения его исчезли, когда в числе буянов он обнаружил одного из тех, кого знал в лицо.
– О, в самом деле, – воскликнул он, – вот настоящий герцог!
– Да, герцог ла Ферте-Сенектер, маркиз де Сен-Поль и де Шатонёф, виконт де Лестранж и де Шейлан, барон де Булонь и де Прива, владелец де Сен-Марсаля, Линьи, Дангу, Преси и других земель! – отвечал сын вдовствующей герцогини.
– Так позвольте же мне доложить вам, господин герцог, – полицейский пристав низко поклонился, – что ваша матушка, герцогиня ла Ферте, сама изволила распорядиться послать за мной… и конечно, я не знал, что она звала меня для того, чтобы арестовать вас…
Громкий смех был ответом на последние слова пристава.
– Извините, милостивые государи, – продолжал комиссар, сняв, как бы в знак почтения, шляпу и машинально поворачивая ее в руках – надо соблюсти достоинство перед столь знатным обществом, – извините! Но в этом деле есть два весьма важных обстоятельства. Во-первых, преступление политическое – вследствие слышанной мной песни; во-вторых, преступление гражданское – по причине шума, производимого в такую позднюю пору! Последнее обстоятельство мы можем, впрочем, оставить и так – от него пострадали одни только простолюдины, лишились покоя и сна… а вы, по вашему званию и по вашим титулам, несравненно выше простолюдинов.
Хотел прибавить «по вашим добродетелям», но остановился вовремя и перешел к другому пункту:
– Что касается первого преступления – я говорю, господа, о той песне, которую вы при мне пели, – то оно чисто политическое, мне нельзя не признать его таковым. В ней затронуты равным образом его высокопреосвященство господин кардинал, король, его королевское высочество и королева-мать, которые столько же выше вас, сколько вы выше простолюдинов. Я могу также считать папу и иностранные державы – о них тоже упоминается в песне. В этом случае мне нельзя не исполнить возложенной на меня обязанности; я должен поступить сурово, по закону, и я это сделаю.
– Вы не смеете! – сказал гордо Марильяк.
– Смею! – с живостью возразил комиссар, сделав энергичное движение и с важностью надев на голову шляпу.
– Он не осмелится! – отозвался тот же голос.
– Осмелится! – не согласился другой.
В двух рядах, стоявших один против другого у кровати Великого Гедеона, только и слышалось: «Он осмелится! Он не осмелится!» – среди восторгов безумного веселья.