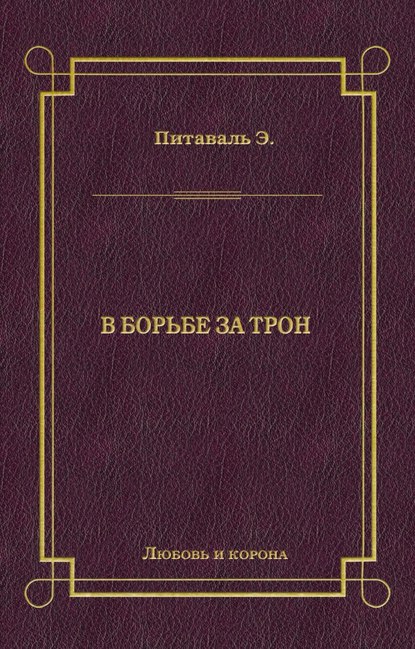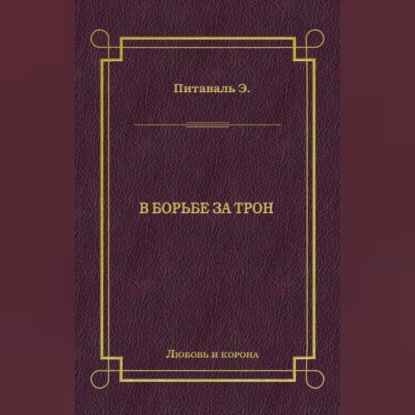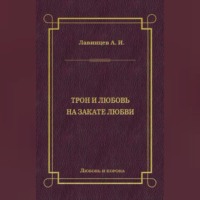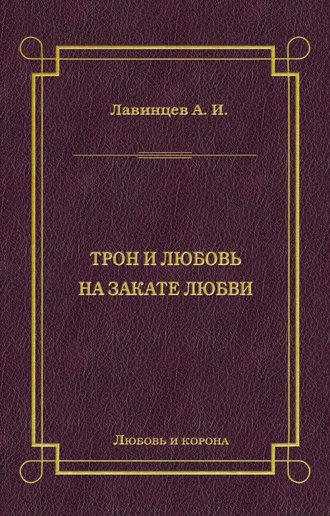
Полная версия
Трон и любовь. На закате любви
– Сестра! – простонал Петр. – Она, она дерзнула… Милый Франц, неужели все это – правда!
– Государь, – выступил Лефорт, – увы, это – правда… По дороге сюда мы нагнали двух стрельцов… Они ужаснулись, когда услыхали о задуманном преступлении, и мчались сюда, чтобы предупредить вас… Вы, государь, можете спросить их сами.
– Что же делать, Франц? – взволнованно заговорил Петр. – Здесь, в Преображенском, нет даже моих потешных.
– Я послал за ними.
– Но успеют ли они явиться сюда.
– Увы, государь, не могу поручиться за это…
– На помощь вам, государь, – вмешалась Анна, – явятся все наши алебардисты; я послала верного человека к господину Гордону.
– Но и они опоздают, – поспешил вставить свое замечание Лефорт, – стрелецкая ватага уже на полпути…
– Что же делать? – вырвался стон у Петра. – Тогда я погиб!..
Он так и заметался по покою. Страшная тоска исказила его лицо; в эти мгновения он и сам искренне считал себя погибшим.
– Дитятко мое ненаглядное, – раздался женский вопль, – опять стрелецкая напасть нас постигла!
– Свет мой Петрушенька, лапушка мой ненаглядный, – смешался с этим воплем другой, тоже женский, – да как же это так? Да где же это в писаниях есть, чтобы против царя бунт подымать, на него, помазанника, дерзнуть?.. И ночью-то покоя нет…
К Петру одновременно с двух сторон кинулись две женщины. Одна была почти старуха, другая – совсем молоденькая. Обе они дрожали от испуга, обе плакали и причитывали. Они обнимали Петра и своими воплями еще более угнетали его, лишали его в эти роковые мгновения, когда жизнь всех их троих висела на волоске, всякой способности думать и подыскивать выход из ужасного положения. Это были мать и жена Петра, царицы Наталья Кирилловна и Евдокия Федоровна.
Их причитания терзали царя. Он понимал, что и они должны будут погибнуть вместе с ним, и что-то похожее на жалость шевельнулось в его сердце. Его взгляд невольно скользнул по переставшей уже быть стройною фигуре жены: Петр знал, что вместе с нею должен погибнуть и кто-то третий, быть может, наследник его царского престола, и при мысли об этом его сердце болезненно сжалось…[16]
А время шло… Каждое промелькнувшее мгновение приближало молодого царя и его семью к гибели.
– Государь, – резко заговорила Анна, выступая вперед, – пока человек живет, он не мертв… Отчаяние – последняя ступень к гибели… Женскими слезами вы не спасетесь… Нужно действовать! Будьте же мужчиной!
Хорошо, что Анна говорила по-немецки. Царицы не понимали этого языка, но для них, в особенности для молодой царицы, было вполне достаточно того, что простоволосая «девка-немчинка» осмелилась заговорить с царем.
Петр жестом руки отстранил от себя обеих женщин и отрывисто, также по-немецки, спросил:
– Что же мне делать?
– Бежать! – разом, в один голос, ответили ему Анна и Лефорт.
– Бежать? – удивился царь. – Куда?
– Государь, – заговорил теперь Лефорт, – совсем недалеко есть великолепная крепость, уже раз изумительно выдержавшая труднейшую осаду… Я говорю про монастырь, в котором похоронен чтимый вашим народом человек… Идите туда, укройтесь там… Там вы будете под защитою святынь. Ваши монахи – не ваши стрельцы, они сумеют защитить вас… Да их защиты и не нужно… Пусть они примут и укроют вас хотя бы до утра. Нам нужно выиграть время. К утру я успею привести к монастырю наших потешных, а господин Гордон – своих алебардистов и мушкетеров… Этого будет вполне достаточно. Не все стрельцы возмутились. Вашим врагам удалось взбунтовать не более как полторы тысячи отчаянных головорезов. Правительница вовсе не желает народного бунта; она добивается вашей смерти и думает, что для совершения такого преступления достаточно нескольких головорезов. Спасайте, государь, себя! Сейчас уходите от непосредственной опасности…
– Да, да, государь, послушайте господина Лефорта, – воскликнула Анна, – поверьте ему!
XXII. Бегство
Анна так увлеклась, что, не обращая внимания на цариц, схватила царя за руку и порывисто толкала Петра вперед.
Это не прошло незамеченным. Так и вспыхнуло яркою краскою стыда хорошенькое личико молодой царицы, а ее глазки заблестели огоньками ревности и гнева.
– Свет Петрушенька, – воскликнула она, – выгони вон эту бесстыжую! Как она, мерзкая, тебя, помазанника, смеет так хватать?.. У, простоволосая!.. Лопочет по-своему что-то несуразное, немчинская тварь!.. Прогони ее скорее, не то я ей сейчас глаза выцарапаю…
Это была первая вспышка, такою Петр никогда еще не видал жены, и эта вспышка была вовсе не вовремя.
Царь грозно взглянул на Евдокию Федоровну, так грозно, что один его взгляд заставил молодую царицу задрожать всем телом, а потом отрывистым, звенящим голосом сказал:
– Если бы вы понимали обе, что говорит эта милая, достойная девушка, вы обе поклонились бы ей в землю.
– Как? – взвизгнула Евдокия. – Мы? царицы?
– Да! Матушка, возьми Дуню! – обратился Петр к матери. – Приоденьтесь обе, нам сейчас уехать нужно будет… спешно уехать…
Наталья Кирилловна сумела сохранить достоинство.
– Куда, сын мой любезный? – спросила она.
– К Троице-Сергию, родимая… Да немедля! Сюда идут стрельцы, подговоренные сестрой Софьей погубить всех нас… Ты, родимая, сама знаешь, что может быть, когда они найдут нас здесь…
О, Наталья Кирилловна знала, что могло быть! Уже не раз переживала она все ужасы стрелецких бунтов и, раз сын говорил так, значит, и на самом деле опасность была грозная, и единственное спасение было только в бегстве.
– Пойдем, Дунюшка, пойдем скорее! – засуетилась она, слышишь, к Троице-Сергию нам ехать надобно… Пойдем, милая, собираться скорее…
– А эта немчинская девка здесь останется?
– Не останется она, по государеву делу она здесь! – И, схватив молодую ревнивицу за руку, царица-мать потащила ее вслед за собой во внутренние покои.
– Это – ваша жена, государь? – спросила Анна Монс. – Право, она очень мила…
Молодая девушка была оскорблена. Правда, она слыхала о грубости, ревности и вообще о невыдержанности московских женщин, но никогда не могла представить себе, чтобы эта невыдержанность была так велика. На миг ею овладела неприязнь к этой хорошенькой «кукле», как она мысленно назвала молодую царицу, но, понимая всю важность переживаемого мгновения, она все-таки сумела совладать с собою.
– Да, да, – ответил ей Петр, – вы не сердитесь на нее, фрейлейн Анхен; она у меня живет по-московскому.
Ему было стыдно за выходку жены. Он заметил, какие иронические взгляды бросали на нее Анна и уже привыкший к ее выходкам Лефорт.
«У, тетеха, кувалда московская! – мысленно бранился царь, – оставить бы тебя здесь – узнала бы, как друзей порочить!» Петр тотчас же стал отдавать распоряжения, чтобы приготовили для женщин колымагу, а для него и для его немногочисленной свиты оседлали коней.
– Я, государь, – услышал он голос Анны, – если позволите, отправлюсь с вами в монастырь…
– Со мной? Вы? – изумленно воскликнул Петр.
Еще несколько минут тому назад Монс даже и не думала о поездке вместе с царем и его семейством, но грубая выходка молодой царицы задела ее самолюбие. Ей захотелось отомстить другой женщине за то, что она считала оскорблением. Она прекрасно понимала, что должна была переживать царица, видя ее около своего супруга. Притом же тут действовало и другое соображение. Анна знала о совещании кукуевских слобожан, об их стремлениях привлечь Петра на свою сторону, знала, что старый фанатик-пастор задумал приковать Петра ко всему иноземному узами любви, для чего даже решился пожертвовать Еленою Фадемрехт, намереваясь сделать ее любовницей царя. Но, зная все это, Анна Монс думала также, что Петр совершенно равнодушен к Елене и что Елена в свою очередь любит молодого Каренина, и решила, что она будет Юдифью для этого московского Олоферна. Анна была умна и достаточно сообразительна; она отлично понимала, что, для того чтобы привлечь к себе царя, необходимо как можно сильнее поразить его воображение, и вот она сама глухой ночью примчалась в Преображенское с предупреждением об опасности.
В этом случае молоденькая девушка оказалась весьма тонким психологом. Ее поступок произвел на восприимчивого Петра впечатление, а контраст Анны и Евдокии еще более усилил его. Анна Монс выиграла сражение, и теперь ей оставалось укрепить за собою свою победу. Именно с этой целью она и вызвалась сопровождать Петра в Троице-Сергиеву лавру.
– Спешите же, государь! – заторопил Петра Лефорт. – Вам еще нужно взглянуть на ваших друзей стрельцов, мне же позвольте откланяться… Что бы там ни говорили, а наши потешные, если только дойдет до драки, сумеют постоять за себя.
Петр, уже не слушая его, прошел в соседний покой.
Там были двое стрельцов, перепуганных одной только мыслью о цареубийстве, на которое подстрекали их приверженцы правительницы Софьи.
Имена этих оставшихся верными Петру стрельцов были: Михаил Феоктистов и Дмитрий Мельков.
В стрелецких полках таких, как эти двое, было немало; есть указания на то, что Феоктистов и Мельков были только депутатами от множества товарищей, с отвращением относившихся к кровавому замыслу.
Увидав входящего царя, они пали на колени и нестройно заголосили:
– Здрав будь, государь царь великий, Петр Алексеевич!
– С чем вы? Какое у вас до меня дело? – грозно сверкнул на них своими черными очами царь.
– Прости, государь милостивый, – опять запричитали стрельцы, – неповинны мы в том… Все проклятый Федька Шакловитый да сучий сын Шошин… Они – тому делу главные затейники; указ твоей сестры, царевны Софьи Алексеевны, показывали, говорили, что всех Нарышкиных извести надобно, потому что от них всякая зарубежная нечисть на Руси заводится… Мы же твое царское величество упредить прибежали и просим за то твоего великого жалованья: помилуй нас.
Стрельцы замолотили лбами об пол.
– Ну, там я посмотрю, чем вас пожаловать, – уже почти ласково произнес Петр, – столбами ли с перекладиной или чем другим. Вставайте! Еду я на великое богомолье к Троице-Сергию и вас с собою беру…
– Милостивец ты наш, – вскочили на ноги стрельцы, – солнышко наше красное! Грудью своею постоим за тебя, а врагу не выдадим… Царь наш пресветлый!
Их восторг был искренен, и Петр видел это, и надежда опять посетила его душу.
«Не все еще потеряно, – подумал он. – Ну, Софьюшка, сестрица милая, видится, что потягаемся еще мы с тобой!»
Уже совсем бодро, высоко подняв голову, пошел он из покоя, сопровождаемый стрельцами, лица которых сияли радостью[17].
Лефорта уже не было; возвращения царя ожидала одна только Анна.
– Фрейлейн, – церемонно кланяясь ей, сказал Петр, – прошу вас занять место в колымаге вместе с моей матушкой и супругой…
– Ну уж нет, государь! – тряхнув головой, весело ответила Анна Монс. – На коне я сюда примчалась, на коне и далее последую… Что мне собою ваших дам в колымаге стеснять…
– Но разве вы не устали? Ведь вся ночь напролет!
– Не бойтесь, я вынослива!
– Пусть будет, как вы того желаете, – согласился Петр.
Они все вышли. Царицы были уже усажены в колымагу, остальным были подведены оседланные кони.
Прошло несколько времени, и весь этот поезд почти бесшумно скрылся во мраке близкой к рассвету ночи.
XXIII. Потухший пожар
Расскажем в самых коротких словах, что случилось после. Здесь не история Петра Великого, но ход событий был бы непонятен, если бы не было этих небольших пояснительных вставок.
Петр и его семейство благополучно добрались до Троице-Сергиевой лавры и с великих почетом были приняты архимандритом Викентием и иноками этой святой обители. А в Преображенское с Шакловитым во главе ворвалась буйная ватага стрельцов, из которых многие уже оказались пьяными. Шакловитый смело и дерзко постучал в ворота дворца и заявил, что по приказанию правительницы явился занять караулы. Его пропустили, и он сейчас же убедился, что тех, кого он искал, уже нет.
Холодный пот проступил у него при одной мысли, что Петр и Нарышкины успели уйти. Ведь весь кровавый заговор был основан только на внезапности нападения. Никто лучше Шакловитого не знал, что цареубийство вовсе не было по душе значительному большинству стрельцов и народа. Был расчет, что удастся, внезапно появившись, разом кончить кровавое дело, и тогда, конечно, московский народ примирился бы с совершившимся фактом; а если бы нашлись немногие смельчаки, которые вздумали бы обличить убийц, то их всегда можно было бы очень скоро унять. Теперь положение разом изменилось. Если младший царь ушел из Преображенского, значит, он знал, что готовилось для него, значит, весь заговор открыт и Петру известно все, происшедшее на Лыковом дворе. Несомненно, что из своего убежища младший царь обратится к народу, и народ пойдет к нему, а если народ станет на сторону Петра, то никакая сила не справится с ним…
Так думал Шакловитый, так было и на самом деле…
Уже наутро после тревожной ночи к Петру в лавру явились стрелецкий полковник Циклер[18], с ним были стрелецкие головы, рядовые стрельцы, всего более пятидесяти человек, и явились они не с повинной, а за тем, чтобы защищать царя от злых ворогов. Весь день шли люди из Москвы к лавре; скоро около нее уже раскинулся шумящий лагерь.
Силы Петра все росли и росли, а вместе с этим рос и ужас его сестры. Софья была достаточно умна, чтобы понять, что ее дело проиграно. Напрасно она издала указ о том, чтобы никто не смел уходить из Москвы без ее ведома. Народ перестал повиноваться ей и шел массами к тому, кого считал своим законным царем.
Скоро в лавре явились петровские потешные. Наемные иностранные войска вступили в Москву, часть их тоже была отправлена к Петру, и командовавший этими войсками Патрик Гордон объявил, что будет повиноваться только законному царю Петру, а не его сестре. Стрельцы покидали полки и шли тоже к Петру. Сухарев стрелецкий полк явился в лавру в своем полном составе. Софью покидали все. Ее сестры, Марфа и Марья Алексеевны, вместе с престарелой теткой Татьяной Михайловной, в молодости бывшей подругой знаменитого патриарха Никона, тоже уехали из Москвы в Троице-Сергиеву лавру «на богомолье».
Гордость неукротимой царевны была сломлена. Она умоляла сестер устроить ей примирение с братом. Петр даже не пожелал их слушать. Софья упросила поехать к Петру патриарха Иоакима – результат был тот же.
Патриарх был даже рад явиться на поклон к Петру, так как усердно распространялись слухи, что он будто бы благословил стрельцов на цареубийство.
Софья отправилась сама, но дальше села Воздвиженского ее не пустили.
Тогда все бояре, кроме Голицына и его сына, бросили царевну, и 5 сентября Петр торжествовал в лавре победу над своими врагами. В этот день он приказал разыскать Шакловитого и ближайших его соучастников: Розанова, Гладких, Петрова, Чермного. Уже был наряжен суд, и во главе судей поставлен один из ожесточенных против Софьи бояр – Тихон Никитич Стрешнев.
В тот же день к Троице-Сергию прибыл князь Василий Васильевич.
Петр более чем милостиво отнесся к нему и ограничился тем, что приказал ему отъехать на житье в Вологду.
Петру нужен был не столько разумный вельможа-дипломат, сколько ревностный исполнитель приказаний его неукротимой сестры – Шакловитый.
Требование выдать Шакловитого перевернуло всю душу Софьи: ведь это был вернейший из ее слуг! Она сделала последнюю попытку спасти его: ринулась к старшему царю Ивану Алексеевичу, остававшемуся в Москве. Но тот даже не пожелал видеть ее… Тогда Софья послала верных людей молить его о защите ее и Шакловитого перед братом.
– Я, царь, – ответил Иван, – не только из-за такого злодея, но даже и из-за нее, царевны, не хочу ссориться с братом!
Это уже было последним ударом. Софья поняла, что ей приходится заботиться уже о себе, и решила пожертвовать Шакловитым, чтобы спасти свою жизнь.
Шакловитый исповедался, причастился Святых Тайн, плача, может быть, в первый и последний раз в жизни, простился с царевной и сам отдался в руки Стрешнева.
Жестокий был век, жестокие были сердца!
Шакловитый вел себя героем. Он знал, что его ждет, и даже не дрогнул, когда пошел на страшные муки, на ужасную смерть. Он погибал за то, что считал своей святыней. Софья из ничтожества подняла его, он отплатил ей, погибая за ее дело. Его расчет не удался, все его замыслы потерпели крушение; при удаче он выигрывал многое, при неуспехе – рассчитывался за все сполна…
XXIV. Розыск с пристрастием
Одно из зданий судного приказа старой Москвы было особенно мрачно. Его высокие окна были с рамами из такого толстого стекла, что извне даже самые зоркие глаза не могли бы рассмотреть, что такое творится внутри. В этом мрачном здании был один обширный покой со сводчатыми стенами. Мрачно было здесь; низкий потолок глушил всякий звук, а сквозь непомерно толстые стены ничто, даже самый громкий вопль, не вырвалось бы наружу. Обстановка была донельзя проста. Под окнами лицевой стороны стоял большой стол, длинный и широкий, покрытый темной материей. За ним стояли кресло и несколько табуретов. На столе были разложены толстые темные книги в свиной кожи переплетах. Поодаль, у других стен, были расставлены предметы, тоже никогда в обычном обиходе не употребляемые, стояли высокая и низкая «кобылы» – толстое круглое бревно на толстых неуклюжих подставках-ножках, по стенам висели разной величины клещи, ломы, тиски, разных форм воронки. В углу был свален пук коротких и долгих палок и лежали охапки веревок. Около стояла большая жаровня. В двух местах в потолок были вбиты крюки и через них пропущены порядочно обтерханные веревки, один конец которых был раздвоен.
Этот «мрачный покой» был застенок, тот самый застенок, в котором так «геройствовал» Малюта Скуратов и в котором после него подвизались неизвестные в истории, но столь же усердные к своему делу его преемники. Много человеческих мук видели эти толстые стены, страшные вопли боли и отчаяния глушили они, но все, что свершалось здесь, вершилось «во имя правды», ради достижения правосудия… Этот ужасный застенок как официальное государственное учреждение появился в России почти одновременно с появлением в ней «носительницы древней пышной культуры», греческой царевны Софьи Палеолог.
Много жестокостей совершалось в России, пока она развивалась самобытно, но когда после татарщины был насажден худший, чем и эта беда, византизм, то он принес с собой на Русь царский титул ее правителям и великие муки управляемым. До Иоанна III пыток в России не было, как не было и публичной смертной казни. Впервые о пытках говорится в судебнике Иоанна III около 1497 года. С тех пор и пошло, и пошло… Лучшие государственные умы стали изощряться в изобретении все новых и новых пыток, разнообразных видов казней. И с тех пор пытка процветает.
В один дождливый октябрьский вечер 1689 года, к концу второго месяца после неудачного покушения Софьи на жизнь своего венчанного на царство брата, в застенке заметно было большое оживление.
Гордо подняв голову, расхаживал по покою «заплечный мастер» – палач, высокий, ражий детина, великан по сложению, с необыкновенно длинными руками. Он громко покрикивал на своих подручных, возившихся около свисшей с потолка веревки с двумя концами и около жаровни, которую они раздували; третьи отбирали пушистые веники с сухими листьями, размахивали плетьми из жгутов, свитых из воловьей шкуры. Ясно было видно, что в застенке в этот вечер готовилось что-то необычайное.
– Шевелись, ребята, – покрикивал заплечный мастер, – не каждый день такие куски к нам в застенок попадают… Надоело кости всяких смердов ломать; чуть плеть увидят, хныкать начинают, а клещи покажешь – визгу не оберешься…
– Да, пришлось-таки поработать! – отозвался один из подручных. – Давно уже не было столько работы…
– Ну, что там за работа была!.. Стрельчишки разные из всяких гулящих, никчемных людей… А тут честь на нашу долю такая великая выпадает: знаешь, поди, сам, кто такой Федька Шакловитый был?
– Еще бы, окольничий!
– То-то и оно, главный стрелецкий воевода… Эва, куда занесся, а наших рук все-таки не миновал… Эх и потешим мы Федьку, так потешим, что до конца дней своих не забудет…
Подручные засмеялись.
– Чего вы? – крикнул им заплечный мастер.
– Да как же чего? «До конца дней не забудет!» Ведь не сегодня завтра нам на лобном месте работать над ним придется, а ты – «до конца дней не забудет»…
– Ну, пока там лобное место – это еще впереди, а вы теперь, ребята, перед боярином-то Стрешневым лицом в грязь не ударьте… Постарайтесь!..
– Да уж ладно! Чего там! Постараемся! – раздались суровые ответы.
В страшном покое темнело все более и более. В полутемноте кроваво-красным глазом казалась разгоревшаяся и чадившая углями жаровня. Ее свет был ничтожен. Зажгли светцы (особые осветительные приборы), горевшие также весьма тускло. Заплечные мастера разбрелись по углам в ожидании начала своей страшной работы, а боярин Стрешнев, как на грех, все не шел в застенок, да не вели и Шакловитого, для которого и собраны были сюда все эти страшные люди.
Вдруг где-то в отдалении раздались шум, хлопанье тяжелых дверей, людские голоса.
– Идут! – так и встрепенулись все в застенке.
Действительно, скоро шум и голоса раздались у самых дверей; они распахнулись – и вошел высокий старик-боярин с утомленным суровым лицом.
Это и был боярин Стрешнев, которому Петром был поручен розыск, то есть судебное следствие – вернее, расправа – над главными злоумыслителями августовского покушения.
Не ошибся Петр в своем выборе: лют оказался боярин Стрешнев! Милославские были его давнишними врагами, и он рад был причинить им всякое страдание, а так как не достать ему их было, то он вымещал свою яростную злобу на тех, кто служил им.
Вошел боярин, все оживилось вокруг.
– Здравствуйте, мастера! – сказал Стрешнев, даже не двигая своей седой головой. – Работишка есть для вас, постарайтесь…
– Здрав будь, боярин! – с поклоном ответили мрачные люди. – Работы мы не боимся… Приказывай только, все исправим…
– То-то!
Боярин прошел к столу, снял свою высокую шапку, расправил бороду и уселся в среднее кресло.
Вместе с ним вошли дьяк судного приказа, подьячие с засунутыми за уши гусиными перьями, и тут же следом ввели трясущегося, дрожащего молодого парня в сильно изорванном стрелецком кафтане, а за ним, окруженный молодыми потешными (стрельцам уже не доверяли), гордо выступая, высоко подняв красивую голову, шел окольничий Федор Леонтьевич Шакловитый. Парень в стрелецком кафтане был Кочет.
Едва только Шакловитый приблизился к столу, как Стрешнев, словно подтолкнутый какой-то пружиной, вскочил с кресла и закланялся с преувеличенным почтением узнику.
– Феденька, друг, – воскликнул он, – вон и здесь привелось встретиться… Что поделаешь-то? Встречались прежде в палатах царских, а теперь вон, сам поди знаешь, какой здесь дворец.
– Брось, боярин, – презрительно усмехнулся Шакловитый, – к чему все это? Делай свое дело…
– Да ты что, Федя? Никак гневаться изволишь? Грех тебе, стыдно! – притворно огорчаясь, воскликнул Стрешнев. – Для тебя же, сердечный друг, стараюсь… Разве мы не свои? Поклеп тут на тебя взведен, так нужно же правду разыскать… Ведь нехорошо, Федя, ежели ты в подозрении останешься.
XXV. Допрос
Шакловитый презрительно усмехнулся. Стрешнев искоса взглянул на него и тоже засмеялся. Он немного подождал, не скажет ли чего-либо окольничий, потом, поманив к себе Кочета, сказал:
– А ну-ка, молодец, пожалуй сюда…
Кочет метнулся вперед и у самого судейского стола упал на колени.
– Ой, боярин-милостивец, – заголосил он, – не буду… Богом клянусь, никогда не буду…
– Да ты чего это, Кочет, – представился удивленным Стрешнев, – чего ты не будешь?
– Ничего не буду, как есть ничего… И детям, и внукам, и правнукам закажу, чтобы они оборотней и во сне не видывали…
– Далеко хватил, парень! – усмехнулся Стрешнев и, многозначительно крякнув, прибавил: – Про детей да внуков ты нам не говори, еще не видно, будут они у тебя или нет! Ты нам про себя лучше поведай… Правду скажи: видел оборотня-то со смертью?
– Ой, государь-боярин, видел, вот как тебя вижу… Царев облик оборотень принял, и смерть около него…
– А ну-ка, ну-ка, расскажи! – дозволил Стрешнев.
Кочет заговорил. Его голос и дрожал, и срывался, но говорил он правду. Без всяких прикрас рассказал он о своих ночных похождениях в Кукуй-слободе и только на одном стоял неотступно, что видел в пасторском домике оборотня в образе царя, а около него – костлявую смерть.
– Так оборотня-то своими глазами видел? – добродушно усмехаясь, спросил боярин.
– Его, боярин милостивый, его самого, неумытого, вот как тебя вижу, – опять повторил Кочет свою фразу, очевидно казавшуюся ему убедительною.