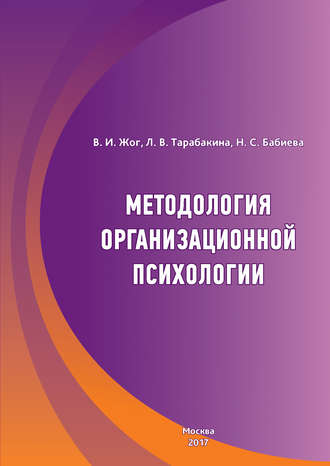 полная версия
полная версияМетодология организационной психологии
Деятельность в группах, в организациях является динамическим и сложно организованным процессом. Далеко не всегда можно предусмотреть и расписать все обязанности и позиции действий для каждого члена группы. Важным для организационной психологии является вопрос о возможностях совместного выполнения поставленной задачи и оптимального распределения действий в группах и организациях с учетом внутренних ресурсов сотрудников.
Поисковая активность начинает меняться и принимать новые качества после встречи с предметом; опредмеченная потребность начинает преобразовывать активность, придавать ей новые свойства и направлять деятельность в соответствии с целями. Преобразованная активность выступает самодвижущей силой. С.Л. Рубинштейн писал: «Своими действиями я непрерывно взрываю, изменяю ситуации, в которых я нахожусь, а вместе с тем непрерывно выхожу за пределы самого себя» [50, С. 334]. Действие опосредовано многими обстоятельствами. Его сложность соизмерима со сложностью мира, в котором оно осуществляется.
Категория деятельности как методологическая принадлежит к числу предельных абстракций. У деятельности нет единого, раз и навсегда фиксированного содержания. Она является движущей силой общественного прогресса и условием самого существования общества. Наиболее общее определение деятельности предложено философами и заключается в том, что это «специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование» [41, С. 151].
В разных типах культуры деятельность занимает существенно разное место, выступая то в роли носителя высшего смысла человеческого бытия, то на правах необходимого, но отнюдь не почитаемого условия жизни. В частности, в организационной психологии зафиксировано существование так называемого феномена «социального лодыря», т. е. снижения индивидуального вклада в общий продукт деятельности в сравнении с тем усилием, которое человек выполнил бы в условиях индивидуальной работы.
Представления о самодвижении деятельности предопределили стратегию поисков конкретных ее феноменов. Как отмечает А.Г. Асмолов, было бы наивно отрицать класс адаптивных поступков и действий, но существует также специфика неадаптивной активности: «…самолет, взлетающий в небо, не противоречит и тем более не отменяет законов земного тяготения, возникновение неадаптивных проявлений поведения никоим образом не является отрицанием адаптивных поведенческих реакций» [4, С. 131].
В ситуациях опасности человеку свойственно действовать казалось бы вопреки представлениям об адаптации. Утверждается, что риск совершается ради риска. Неизъяснимое наслаждение и влечение к запретной границе действительно загадочно в судьбах конкретных людей. Тем не менее, у человека, обретаюшего опыт «думания о думании», представленные в неосознаваемой тенденции процессы смыслообразования обеспечивают безопасность в прогнозируемом проекте будущей жизненной перспективы, хотя и с определенной мерой риска в ее реализации. В условиях совместного взаимодействия человеку свойственно ставить «сверхзадачи», опережающие запросы и обстоятельства настоящей жизненной ситуации. Эти системные качества активности готовы проявляться в намечающихся проблемно-конфликтных взаимовлияниях и интеракциях. В.А. Петровский выбросы такой поисковой активности и смыслообразования называет феноменом «бескорыстного риска» [44].
Единство адаптивных и неадаптивных (рискованных, инновационных) проявлений деятельности и поведения представляет собой обязательное условие овладения общественно-историческим опытом и его совершенствования. Чтобы члену группы или организации добиться признания своего вклада в общий групповой (средовой) продукт, необходимо осваивать новые и сложные формы деятельности, особенности их функционирования на межличностном и межгрупповом уровнях в условиях длительных коммуникаций, сопровождаемых несовпадением и столкновением групповых интересов.
3.2. Саморегуляция как объяснительный принцип функционирования сложнодинамической психологической системы
В истории психологии наметились в основном два контекста, в которых используется категория «саморегуляция». Один из них берет свое начало от работ Д.А. Ошанина, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой и рассматривает саморегуляцию как процесс, сопровождающий любые формы психической активности. Саморегуляция определяет степень развитости субъективной активности и направлена, в известной степени, на преодоление природных ограничений. Другой подход к саморегуляции указывает на ее признание как стратегически значимой проблемы, способной выражать прорыв к новым парадигмальным достижениям психологической науки. Как пишет В.Е. Клочко, теория саморегуляции заключает в себе сгусток методологических проблем, решение которых определяет сущность современного этапа развития психологической мысли [48].
Категориальный аппарат современной науки пребывает в стадии становления, а потому исследователи вынуждены прибегать к языку метафор и к моделированию метафорических конструкций. В частности, движение системно организованной конструкции психического довольно часто представляется таким образом, что оно якобы подобно движению «бильярдного шара». Бильярдный шар катится именно в том направлении в зависимости от того, как его стукнули и куда направили. О регуляции живой системы следует говорить тогда, когда источник движения находится вне ее системы. По аналогии можно предполагать, что движение психической системы, казалось бы, изменяет свою траекторию в том направлении, куда ее направляют внешние жизненные обстоятельства. Например, происхождение новых эмоций интерпретируется как «эмоциональная регуляция», как «отреагирование» на определенные события. Между тем механизм саморегуляции предполагает, что динамическая и сложно организованная система, находящаяся в постоянном движении, сама способна учитывать внешние изменения и находить силы для выбора стратегии собственного движения. Такой механизм саморегуляции предполагает, что активность системы направлена на уменьшение возникающего рассогласования между желаемыми целями и наличным изменением дел и жизненных обстоятельств с целью сохранения собственной безопасности и утверждения успеха для себя. Система сама должна зафиксировать несоответствие собственной активности требованиям внешней среды, спрогнозировать стратегию изменений и реализовать ее. Такая саморегулирующаяся система способна обучаться на собственных ошибках с тем, чтобы использовать свою активность и поступательное движение в интересах собственной же безопасности. Безопасность является важнейшим смыслом и механизмом, сопровождающим эволюцию всего живого мира в целом. Сложность, неоднозначность и противоречивость механизма саморегуляции, широта его сферы и междисциплинарность делают его чрезвычайно сложным для концептуализации.
Другой и более адекватной метафорой образа саморегуляции психического и ее механизма (заменой «бильярдному шару») является метафорический образ «езды на велосипеде», предполагающий управление сверхподвижной и неустойчивой конструкцией, требующей направлять усилия на сохранение равновесия и организацию движения конструкции. Особо отметим, что управление движением сверхподвижных и динамических систем совсем не дается начинающим субъектам, но затем по мере личностного развития, воспитания и обучения управление для них становится мастерством, компетентностью и зависит только от меры активности и богатства опыта субъекта. Мастерство социально-психической саморегуляции, во-первых, принадлежит субъекту/организации как авторам, управляющим движением и динамизмом сверхподвижных системам. В результате освоения опыта саморегуляции субъект (или организация) приобретают умения и способности поддерживать безостановочное движение; менять его направление, постоянного сличать желаемый маршрут с реальным состоянием дела и обстоятельств; чувствовать меру допустимой неравновесности и риска в поддержании движения и динамизма конструкции (системы); сохранять хрупкую, но постоянную устойчивость, необходимую для поддержания динамического функционирования во времени-пространстве и для обеспечения безопасности конструкции.
В современной психологии целый ряд школ строят свою работу на основе методологического принципа саморегуляции: в ИП РАНе – это Д.А. Ошанин и О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, К.А. Абульханова, Е.А. Сергиенко; в МГУ – Б.В. Зейгарник, О.К. Тихомиров, Д.А. Леонтьев; в Новосибирске – В.Е. Клочко. За рубежом эти идеи развивают: в США – Ч. Карвер, М. Шейер; в Германии – Ю. Куль, Д. Дернер. Этот подход сложился в конце 20-го столетия, преимущественно в 90-е годы [48].
На неоднозначное использование термина «саморегуляция» в психологической литературе указывают многие авторы, что является следствием разного понимания ее возможностей и интерпретации механизма функционирования (В.Е. Клочко, Т.В. Корнилова, Д.А. Леонтьев и др.). В частности, В.Е. Клочко обсуждает правомочность использования термина «саморегуляция» в таком контексте как «саморегуляция деятельности». Он считает, что возникает не только «двусмысленность» использования такого термина, но возражает против допустимости его использования, так как деятельность не может сама себя регулировать. Д.А. Леонтьев указывает на необходимость разного использования термина «саморегуляция», а также обосновывает критерии их различения, позволяющие четко разводить саморегуляцию в разных контекстах. Во-первых, саморегуляция как процесс используется в конкретных исследованиях для описания психических процессов (саморегуляция воли, эмоций и т. д.), для описания качеств и способностей (саморегуляция использования времени и др.). Во-вторых, саморегуляция как междисциплинарный объяснительный принцип имеет методологическое значение для психологической науки, с появлением которого происходит переход от традиционных дуальных (бинарных) моделей в постижении психического к многомерным системам, потенциально обладающим бесконечным числом степеней свободы и саморазвития.
Особое значение «саморегуляция» как объяснительный принцип имеет для методологии организационной психологии. Саморегуляция, осуществляемая в масштабах жизненного социально-психологического времени-пространства, представляет собой саморегуляцию высшего порядка: «Ей соответствует уже все время-пространство жизни, и в своем обобщенном виде она приобретает качество жизненной стратегии» [48, С. 72]. Саморегуляция испытывается на прочность и успешность в новых условиях, в решении задач организации интерактивного пространства, в обстоятельствах столкновения групповых интересов и конкуренции.
Приоритеты в объяснении принципа саморегуляции до недавнего времени отдавались в современной психологии в основном зарубежным авторам. Так, в 1980-е годы С. Мадди выделил две тенденции в развитии личности: 1) растущая роль когнитивных факторов; 2) смещение акцентов на процессы взаимодействия личности и ситуации. Особое значение для объяснения механизмов личностной психики приобретает вторая тенденция. Близкую позицию занимает Х. Хекхаузен, который предложил четыре варианта регуляции мотивов:
1) мотивация целиком регулируется индивидуальными особенностями;
2) мотивация регулируется ситуацией;
3) мотивация регулируется соотношением индивидуальной и ситуационной детерминантами;
4) среда и ситуация выступают не как детерминанты мотивации, а как пространство возможностей [64].
Справедливо приоритеты в исследованиях саморегуляции как объяснительного принципа психологии все-таки отдать отечественному психологу С.Л. Рубинштейну, автору онтологической концепции…, который в 60-е годы пристальное внимание уделил борьбе мотивов, вызывающей либо колебания, неуверенность, либо хаотичность и непоследовательность этапов саморегуляции. Огромную проблему для понимания механизмов личностной саморегуляции представляет соотношение желаемого и необходимого, когда предъявляемые требования и нормы снижают или подавляют активность. Являясь вертикалью, интегрирующей разные уровни личностной, психической, психофизиологической и др. организации, саморегуляция способна устанавливать соответствие своим способностям и возможностям [63].
Понятия «регуляция» и «саморегуляция» не случайно все более явно предстают в психологии. Однако «саморегуляция» – это гораздо большее, чем конкретное поле исследований и регуляции изменений. Саморегуляция как общий объяснительный принцип оказывается барьером для дезинтеграции систем. Показательно, что и зарубежные и отечественные авторы саморегуляцию как объяснительный принцип понимают без существенных разногласий, так как принцип нельзя понимать по-разному. Научное понимание принципа в отличие от житейского знания используется не как «заклинание» и не как «принцип ради принципа», а как механизм «думания о думании» и как рефлексия о происхождении и функционировании социально-психологических феноменов.
Следует признать, что в исторической перспективе науки открытие идеи саморегуляции принадлежит, прежде всего, создателям кибернетики. Начало кибернетики связывают с появлением статьи Н. Винера «Поведение, целенаправленность и теология» (1943 г.). Винер возглавил группу ученых, состоявшую из разных специалистов (тех, кто исследовал поведение крыс в лабиринтах, математиков и др.), чтобы создать кибернетическую модель управления. Для этого необходимо было определиться, а что моделировать и что детерминирует поведение (образ, память, движение)? Но модель поведения не возникала, поскольку все они были всего лишь детерминантами. Гениальность математического обобщения возникла и состоялась в выводе о том, что программа кибернетической модели управляется обратной отрицательной связью (ООС). ООС вносит в кибернетическую программу коррективы. Обратная отрицательная связь ООС важнее для эффективного управления, чем положительная. Она сигнализирует о необходимости изменений и необходимости управления. ООС – это величина ошибки (или рассогласования) в сложившейся ситуации. Кибернетическая модель состоялась, когда оказалось возможным управление собственными ошибками. В качестве примера динамики личностных изменений и возможных негативных следствий положительной обратной связи Д.А. Леонтьев указал, в частности, на такие процессы (совершенно не подлежащие корректировке), как паранояльное развитие личности или личностную незрелость как продукт попустительского стиля воспитания [48].
Обоснование механизма саморегуляции на психофизиологическом уровне принадлежит отечественному физиологу Н.А. Бернштейну (1929 г.). Пять лет спустя подобную модель функционирования обосновал П.К. Анохин. Между Бернштейном и Анохиным были сложные, конкурентные отношения. Н.А. Бернштейн противопоставлял свой подход учению И.П. Павлова, а П.К. Анохин был его последователем. Тем не менее, в их теоретических моделях было больше общего, чем различий. Были созданы первые структурные модели психофизиологической саморегуляции на основании открытия механизма обратной связи; исследовалось место саморегуляции в построении движений.
В дальнейшем идеи саморегуляции утверждались целым рядом исследователей. Среди них оказались У. Кенон, Э. Бауэр, Г. Бейтсон и многие другие. Э.С. Бауэр сформулировал основной закон биологии (1935), состоявший в том, что живые системы никогда не находятся в равновесии; энергия, поступающая извне, используется не для производства внешней работы, а для воспроизводства внутренней системы. Г. Бэйтсон сделал важный вывод, раскрывающий механизм функционирования живых систем. Его основополагающая идея состоит в том, что живая система способна не нарушаться в условиях, когда нарушается внешняя среда. На метафорическом языке эта закономерность была продемонстрирована доступным для понимания следующим сюжетом. Если человек ударяет ногой камень, то энергия сообщается камню и сохраняет заданную траекторию движения. Если бьют собаку, то ее поведение будет неоднозначным и предполагающим следующий выбор:
♦ поведение собаки может быть достаточно консервативным и устойчивым, и тогда она продолжит движение по «ньютоновским» законам;
♦ собака может выдать поведение, источником которого будет являться не удар ногой (не внешнее воздействие), а собственный выброс энергии – собака может обернуться и укусить.
Все эти исследования в биологических науках позволили подойти к методологическим выводам о том, что живые системы способны оценивать сигнал из внешней среды и самопроизвольно изменяться. Эти изменения не вызваны внешними причинами, а являются механизмом самодетерминации и саморегуляции. Субъект исполняет деятельность, управляя процессом движения. Форма движения известна субъекту заранее, он старается удержать ее своей работой и опытом.
Все названные исследователи – кибернетики, физиологи, биологи – дискутируют с оппонентами со сходной методологией. Д.А. Леонтьев задает вопрос, кто же были их оппоненты? Во-первых, это влиятельное учение об условных рефлексах И.П. Павлова. Во-вторых, это бихевиористическая школа, авторы которой исходят из реактивного характера поведения. В-третьих, это учение З. Фрейда о влечениях, которые присутствуют как «зуд», исходящий изнутри из организма, и от него невозможно уклониться. В то же время на протяжении всего 20-го века обосновывался и утверждался в науке инновационный объяснительный принцип саморегуляции как противостояние реактивной парадигме [48].
Идея саморегуляции противостоит также дифференциальной парадигме индивидуальных различий в понимании В. Штерна. В основе данного подхода используется понятие «черта личности». Самая важная задача, которую ставит исследователь, измерить черты личности, как неизменяемые и как равные самой личности. Черты личности (частично врожденные, а частично приобретенные) обладают устойчивостью, воспроизводятся в разных ситуациях и повторяют «схемы» поведения (паттерны). Продолжая следовать языку метафор, можно сказать и сравнить черты личности с «пленкой», которую можно включать и выключать; она воспроизводит только то, что на ней записано. Между тем, центральным моментом механизма саморегуляции является не устойчивость, а являются целесообразные изменения, направленные на сохранение безопасного функционирования системы. Важными для организационной психологии являются вопросы: Каким образом организация может продуктивно изменяться, сохраняя свою конструкцию? Каким образом она может повышать эффективность своего функционирования в условиях изменений?
Выделяют два пути саморегуляции и совершенствования систем: во-первых максимально точное соответствие данной конкретной ситуации, во-вторых, способность учитывать широкий круг проблем и переносить жизненный опыт из одной обстановки в другую. Как отмечает Ю.П. Стрелков, «опыт нужно искать в действии субъекта, где есть эмоции и движения. Опыт – это поток переживаний, впечатлений, движений и устойчивая структура, возникающая и сохраняющаяся, обеспечивающая повторение, воспроизведение уже исполненного, обеспечивающая успех деятельности. Опыт – живой, подвижный, создается, возникает и разрушается, функционирует и требует усилий» [59, С. 385].
Саморегуляция связывает субъекта, группу, организацию с миром, интегрируя внешние и внутренние факторы. Развитие индивида, организации – это успешный переход от регуляции к саморегуляции. Жизнь оказывается непрестанной работой над ошибками, над критериями, которые оцениваются как значимые, но которые все время усложняются. Саморегуляция в отличие от самоопределения указывает на активный характер поддержания своего автономного функционирования, несмотря на негативные и травмирующие воздействия извне; это способность избирательно реагировать на реальные опасности и целесообразно действовать в целях обеспечения безопасности и самостоятельности.
Гиперконкурентная внешняя среда задает как высокие требования к бизнесу, так и обширное поле проблем и рисков, угрожающих сохранению соответствия интересов между организацией и внешней средой, что неизбежно инициирует внутриорганизационную активность. Организация как сознательно координируемое социально-экономическое образование с определенными границами своего местонахождения функционирует под влиянием двух противоречивых тенденций: тенденции к поддержанию устойчивого постоянства и тенденции к изменениям. По отношению к изменяющемуся социально-экономическому пространству организация выступает всего лишь как его подсистема и, соответственно, функционирует, адаптируясь к ее изменениям, избирательно выделяя и оценивая лишь те изменения, которые могут быть опасными для деятельности организации. В этих обстоятельствах наиболее важным вопросом является понимание переходов между этими тенденциями и особенности прогнозирования стратегии своей активности.
Устойчивость обычно трактуется как сопротивляемость внешним разрушающим воздействиям. Вместе с тем устойчивость системы не следует рассматривать как пассивное ее состояние; это результат активности системы и ее собственных действий, результат саморегуляции. Она достигается не за счет действий отдельных элементов системы, а является результатом деятельности всей системы в целом.
Реализация изменений представляет собой интерактивный процесс, включающий оценку, уточнение, коррекцию и изменение первоначального образа ситуации. Организации в процессе реализации изменений могут страдать от того, что уже утратили преимущества старого порядка, но еще не достигли преимуществ нового порядка. Чтобы научиться управлять организационными изменениями, необходимо научиться адекватно оценивать и прогнозировать различные варианты сопротивления персонала.
Как отмечают исследователи, если саморегуляция поведения и деятельности человека нарушается, то это вызывает личностную патологию. Следствиями нарушенной саморегуляции являются, например, эмоциональное выгорание, агрессия, отказ от ответственности, суициды, наркотики.
Саморегуляция применима не только к объяснению индивидуальной деятельности и поведения, но и к группе, к организациям, к большим социальным системам. Гражданское общество также является саморегулируемым обществом. Суть демократии – это не только такие разовые мероприятия как выборы, не только разделение власти и полномочий, но и действие постоянной обратной связи (и конечно, обязательно отрицательной), так как только она помогает выявлять рассогласования, корректировать качество жизни и влиять на инициирование изменений и на успешность деятельности (поведения). Принять сложность мира помогает понимание неуклонно возрастающей собственной сложности. Стремление упростить мир – это уход от вызова жизни. Жизнь – это диалог с проблемными обстоятельствами, а саморегуляция – это механизм диалога и взаимодействия с ними.
3.3. Принцип толерантности к организационным изменениям
Особенности современного мира таковы, что самоорганизующиеся системы вынуждены функционировать в условиях высокой неопределенности. Неопределенность создает напряженность в связи с тем, что создает дефицит времени для планируемых изменений и в результате может предстать неготовностью к новым обстоятельствам, а может быть и необратимостью действия определенных сил и обстоятельств. При всех существующих рисках, с самого начала следует допускать возможность непоправимого, необратимого и деструктивного развертывания событий.
По мере усложнения системы и ее обратных связей достижение устойчивости становится все более сложным. Требуются специальные ухищрения, чтобы обходить опасные воздействия. Деятельность организаций реализуются в условиях высокой и субъективной, и объективной неопределенности. Неопределенность создает особые трудности предсказания и прогнозирования новых событий, чтобы иметь возможность адекватно и быстро реагировать на них, чтобы поддерживать стабильность результатов своей деятельности. Более того глобальные процессы в целом влияют на рост неопределенности в мире в контексте возникновения самых различных обстоятельств и случайностей.
Принцип вероятностной детерминации, обоснованный первоначально в науке физиками, был в дальнейшем перенесен и на исследования социально-психологических и социально-экономических феноменов и понимание механизмов их функционирования. Признание существования вероятностной детерминации не противоречит характеристике динамической причинности. При динамических закономерностях причинность выражается в необходимой связи, а при статистических закономерностях причинно обусловленной оказывается случайность.
Если у персонала низкая терпимость к организационным изменениям, то они будут оказывать сопротивление проводимым и необходимым для дальнейшей деятельности организации инновационным проектам. Сопротивление изменениям трудно преодолевать, даже в тех случаях, когда они не причиняют вреда персоналу. Восприятие тех, кто планирует организационные изменения, отличается от восприятия людей, которых они могут затронуть. Непонимание чаще всего возникает в ситуациях низкого доверия администрации. Например, в организации решили усовершенствовать график работы, но не объяснили персоналу смысл проводимых новых мероприятий. В результате персонал начинает использовать свою изобретательность, чтобы оградить себя от давления возможных перемен. Своевременное информирование о смыслах предстоящих изменений может помочь пониманию их неизбежности, а также избежать причин сопротивления изменениям.



