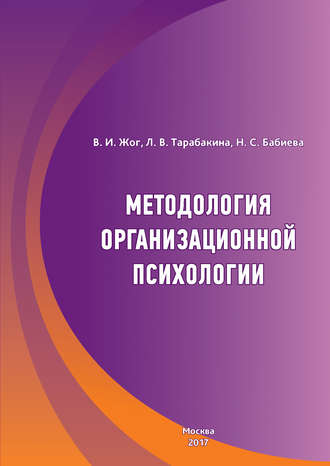 полная версия
полная версияМетодология организационной психологии
Существуют разнообразные подходы, учитывающие изменения организаций в контексте времени. В частности, концепт «организационное развитие» противопоставляется концепту «организационная трансформация». Организационное развитие – это сравнительно «мягкий» метод разрешения проблем организации. Однако современные радикальные социально-экономические перемены неизбежно ставят задачи радикальных организационных изменений. Такие радикальные методы организационных изменений объединены понятием «бизнес-реинжиниринг» и тех процедур, которые сегодня понимаются под «организационной трансформацией». Организационная трансформация связана со значительными рисками и обусловлена внезапными изменениями во внешней среде. Наряду с внешними условиями необходимость процессов организационной трансформации может быть обусловлена внутриорганизационными условиями.
В списке внутриорганизационных условий, способных создать значительные риски и нарушить систему профилактических мер в обеспечении более спокойного варианта организационных изменений, Д. Геберт и Л. фон Розенштиль называют следующие характеристики: психологическое напряжение в организациях, личностную закрытость персонала, «недостаточную готовность членов организации открыто и энергично обсуждать с руководством опасность использования тех или иных стратегий уже на первых этапах возникновения несоответствия между организацией и внешней средой». [14, С. 591]. Если опасности, доступные для распознавания именно на начальных стадиях, не обсуждаются, то затем они оказываются уже упущенными возможностями, преодоление которых возможно только в условиях принятия радикальных решений для организации в целом.
За фазой трансформации должна следовать фаза конвергенции, направленная на восстановление утраченного равновесия и баланса, и выполняющая функцию рестабилизации организации. Критерием восстановления желаемого состояния системы являются те изменения, которые подтверждают достижение определенного соответствия организации с требованиями внешней среды.
В современной реальной действительности организационные изменения чаще проводятся против воли персонала. Потенциальное сопротивление персонала принято смягчать управленческими стратегиями привлечения работников организации к соучастию в проводимых изменениях. Изменения в этих обстоятельствах могут трансформироваться из активного сопротивления в позитивную мотивацию и оказываемую поддержку. Однако управление такими процессами известно руководителям подобных изменений только в общих чертах. В работе «Организация и внешняя среда» американские исследователи П. Лоуренс и Дж. Лорш показали, что неустойчивость баланса между интеграцией и дифференциацией может стать серьезным препятствием для эффективности и прибыльности организации. Чрезмерная дифференциация может привести организацию к общему непониманию организационных целей и к конфликтам, а поэтому необходим противодействующий механизм, а именно – интеграция. Согласно Лоуренсу и Лоршу, интеграцию можно обеспечить, комбинируя следующие факторы: формальную иерархию; внутреннюю политику и правила; разделение на отделы; обучение межличностным отношениям [43]. Если неуспешные организации испытывают кризис из-за отсутствия баланса между слишком высокой дифференциацией и недостаточной интеграцией, то успешные организации сохраняют баланс внутренних процессов, связывающих организацию как целое, и выполняют узкопрофессиональные задачи достаточно качественно, несмотря на рост сложности среды. Интеграция организации должна быть тем больше, чем выше неопределенность внешней среды, иначе организация может не выдержать напряжения тех обстоятельств и условий, в которых она функционирует. Экстремальные условия среды являются серьезным испытанием для организационной власти, поскольку именно она решающим образом влияет на интеграционные процессы.
Структура унифицированного спроса требует меньше внутриорганизационной изменчивости, так как избыточное разнообразие может нарушить представления о качестве продукта. Для массового производства внешняя среда выглядит безразмерной для сбыта и потребления ресурсов, что позволяет рассматривать организацию как «производящую машину», насыщающую продукцией существующий дефицит и не заботящую о ресурсах. Задачи, связанные с психологией и инициативами персонала, возмещаются надежными и производительными действиями власти. Нерегламентированная инициатива персонала в этих обстоятельствах считается артефактом и игнорируется. В свою очередь рост дефицита стимулирует рост производства, а рост производства устраняет дефицит. Организации вынуждены усложнять продукт, технологии производства, что приводит к необходимости определять полномочия в иерархии власти и ответственность в выполнении команд. Эти процессы позволяют некоторым авторам делать вывод, что бюрократический подход – это наиболее эффективный способ решения таких задач.
Другая точка зрения отстаивает позицию, что с усложнением потребления, производства и продуктов социально-психологические переменные обоснованно привлекают большее внимание специалистов. Процесс управления развивается в направлении ухода от ограничения возможностей изменчивости к активному стимулированию и росту нерегламентированной инициативы персонала с тем, чтобы продуктивно продвигать и реализовывать основные цели организации.
Ряд авторов ставит вопрос о том, что «чрезмерная концентрация» на социально-психологических переменных может наносить ущерб производственным процессам, в результате чего «содержательные границы концепта организация размываются. Его значение простирается от промышленного производства до группы по интересам – определение социального института вмещает все эти смыслы. А это принципиально неверно» [42, С. 40]. Авторы приводят также факты свидетельствующие, что 80 % вновь созданных организаций распадаются, так и не решив проблему преобразования социальных интересов в экономический эквивалент. Когда организация терпит экономические трудности, люди чувствуют снижение качества социальных программ. Однако методологически, на наш взгляд, неверным представляется вывод о том, что организации, являясь институтами «экономическими», могут воз-никнуть только в параметрах этой системы, как и то, что «организации не зависят от отдельных навыков определенного специалиста. В этом смысле организации безличны». [42, С. 43]. Любая организация является многомерным образованием, решающим как экономические задачи (производственные), так и социально-психологические в их единстве и целостности. Некорректно, на наш взгляд, противопоставлять эти группы задач. Это всего лишь разные аспекты анализа организаций и управленческой деятельности, без решения которых организация не может ни возникнуть, ни эффективно функционировать, ни искать и находить соответствие между внутренними ресурсами и ресурсами внешней среды. Современная психология осваивает идею многомерности, но это процесс не может быть простым и столь очевидным для анализа его механизмов действия.
Зависимость организаций от внешней среды не является прямолинейной. Организации могут развиваться настолько, что сами приобретают возможность влиять на многие факторы внешней среды. Однако редким организациям достаются долгие временные возможности функционирования и благополучия. Как правило, организации зарождаются, развиваются, добиваются успехов и процветают, но затем ослабевают и, в конце концов, могут прекратить свое существование. Анализ технологий использования времени и рассмотрение динамики функционирования социально-психологических систем во временных координатах, как считает Ю.К. Стрелков, дают возможность: 1) слитно рассмотреть реальный процесс; 2) раскрыть временную форму деятельности в единстве с ситуациями и процессами, протекающими за ее пределами; 3) продемонстрировать встроенность процесса во множество других процессов; 4) исходить из глобальных процессов, характеризующихся большой энергией; 5) исследовать переходы между событиями, людьми, предметами. Время позволяет исследователю занять позицию освоения опыта в условиях движения и деятельности [59].
Все психологические концепции описывают жизнь организаций и представленность их во времени в качестве переходов между «ступенями», «фазами», «этапами», «эпохами» и т. д. В отечественной психологии переходы развития организаций обозначаются как кризисы, в которых представлен как потенциал роста и обновления, так и деструктивные тенденции. Понятие «жизненного цикла» организации через выделение ее этапов развития, содержательное описание тенденций развития помогает прогнозировать проблемы, сопровождающие динамику организационных процессов.
Начинается организация с этапа замысла инициатора, который имеет способность и личный дар распознать условия среды как благоприятные для создания и разработки коммерческо-производственной идеи. Однако даже самый перспективный замысел останется всего лишь мифом, если не создана идеальная модель внедрения идеи и будущей организации в пространство деятельности других организаций. Важную роль в реализации такой модели имеют ресурсы человека-инициатора: его знания и предлагаемый способ производства этих знаний в ситуации неопределенности. Чтобы создать организацию, необходимо обеспечить соответствие замысла (модели) объективным требованиям среды, а среда, между прочим, не всегда поддерживает благоприятный потенциал столько времени, сколько необходимо инициатору, чтобы активно включиться в воплощение замысла и приступить к преодолению препятствий. Упущенные возможности принимают характер необратимых процессов.
Далее следует этап становления, на котором формируется исполнительная система организации, способная привести ее к необходимому результату. От тех, кто работает в этот период в организации, требуется четкость исполнения указаний организационной власти, поскольку цели организации еще не в полном объеме понятны и для управленцев, и для персонала. Как свидетельствуют статистические данные, из-за несогласованности организационных действий именно на этом этапе вновь создаваемые компании терпят неудачи и крах.
Этап формализации и роста организации упорядочивают технологии управления, планирования, интеграции и контроля. Инициатор стремится улучшить качество продукта при наименьших затратах. Расширяется прием на работу новых сотрудников, создаются новые подразделения. Оформляется миссия организации, создаются формы социальной привлекательности организации для восприятия окружающими людьми и для внешнего социального окружения. Внутри организации четко обозначена дифференциация и иерархия распределения полномочий, действует система налаженного контроля.
Наконец, наступает этап зрелости и достаточного благополучия, открываются новые возможности роста организации, а ее структура становится наиболее сбалансированной и устойчивой. Увеличивается выпуск продукции и расширяется рынок оказания услуг. На этом этапе процесс создания концепции организации фактически закончен по отношению к первоначальным представлениям инициатора и у него нет необходимости прямо контактировать с клиентами и партнерами. Эти функции делегируются профессиональному менеджменту. Возникающий механизм отчуждения организационной власти от производственного процесса может привести к тому, что инициатор теряет возможность контролировать те изменения, которые исходят от менеджеров. Инициатор может принимать решения, но не до конца даже представляет возможности их внедрения в силу возникшего механизма обособления. Удовлетворенность организационной власти уже достигнутым результатом снижает энергию организации в целом и инициативу поисков новых путей развития и преобразования производственной деятельности.
Этап инноваций начинается тогда, когда организация начинает терять конкурентные преимущества из-за внутреннего и внешнего несоответствия первоначальной концепции реальному положению дела. Темпы роста прибыли начинают снижаться. Важное место в обновлении концепции начинают занимать инициативные группы, которые предпринимают попытки преобразовать базовую концепцию по отношению к возникшим изменениям среды. Инициативная группа при этом вынуждена предпринимать чрезвычайно напряженные усилия для того, чтобы внедрять инновации и удерживать организацию от возможного краха. В этих обстоятельствах возникают конфликты, которые могут разрастаться и создавать проблемы дезинтеграции. Чтобы вернуть организации утраченную эффективность, необходимо напряжение всех сил и возможностей работников [19].
1.4. Кадровый ресурс организации и психологические технологии: методологический анализ
Невозможно обсуждать жизнь организаций, ее прибыль и производительность в целом, не принимая в расчет деятельность людей, их энергию и личностные качества. Только благодаря деятельности людей организации достигают успехов и высоких результатов. Первичной реальностью, превосходящей всякую объективную действительность, являются люди или так называемый кадровый потенциал, кадровый ресурс организации.
Как указывает мировой опыт, экономия средств на создание и укрепление кадрового потенциала организаций, на его социализацию совершенно оказывается неэффективной и недальновидной стратегией управления. Однако в современной России к таким выводам работодатели приходят весьма сложно. Чаще перестройка мышления и позитивный опыт обретается в результате подведения итогов уже состоявшихся управленческих ошибок и к тому же такой опыт открывается предпринимателям весьма избирательно. Мы уже ссылались на статистические сведения, что 80 % вновь созданных российских компаний терпят неудачу именно в первые пять лет своего функционирования. Однако причины управленческого краха, в основном, анализируются с позиций обыденного сознания (постулата непосредственности), а не являются объектом достоверных научных исследований и доверия к ним. Наиболее авторитетный теоретик организационной психологии А.Н. Занковский указывает на существующие ограничения, прежде всего, методологического плана в исследованиях социально-психологических ресурсов организаций, а также выделяет те противоречия, которые возникают между запросами работодателей и, в частности, их видением возможностей использования современных психологических технологий для обеспечения организационной безопасности. А.Н. Занковский отмечает особую роль и предназначение организационной власти, считая, что именно «организационная власть является организациогенным процессом», поскольку о создании организации можно говорить только при наличии самого факта организационной власти. В более широком контексте понимание решающей роли власти заключается в том, что ее энергией и ее культурой обеспечивается прогресс человеческой цивилизации и формирование культуры человеческих форм поведения. Миссия организации, ее последствия для функционирования и для успешной производительности задаются усилиями, прежде всего, организационной власти. Между тем, именно субъект власти, его личностные и профессиональные качества, ценности и мотивы остаются вне досягаемости научных исследований психологов и, соответственно, научных обобщений, столь необходимых для становления и расширения, как практик организационной психологии, так и социально-экономической практики [19]. По существу, сохраняется и культивируется идея, когда-то сформулированная немецким социологом М. Вебером, в которой определена реальная позиция власти в организации и ее предназначение, состоящие в том, чтобы преобразовывать мотивацию людей таким образом, чтобы принуждать их делать то, что делать они не хотят, а с этой целью мифологизировать капиталистические отношения и интересы. Современная социально-организационная ситуация принципиально меняется и пришло время активно использовать психологию для совершенствования самой организационной власти, в том числе, в комплексном решении разных задач социально-психологической практики и в отношениях человека с миром и с другими людьми. Пласт накопленных психологических знаний о человеке необходимо переосмыслить и сориентировать не в отношении абстрактного менеджера, а применительно к реальному субъекту власти [19].
Следует особо отметить, что внедрение психологических практик во всех сферах (образования, медицины, психотерапии и др.) всегда требовало достаточно непрямолинейного вхождения на новую территорию, предполагающего особое искусство и компетентность предъявления своих услуг, особого напряжения и усилий психолога. Результаты его действий и смысл участия в общем контексте производственных процессах не сразу очевидны и для властных фигур, и для персонала. Механизм внедрения психологических технологий является универсальным, а механизм трудностей, переживаемых практиками известен, начиная с истории их применения, со времени чрезвычайно неоднозначен и свидетельствует о трудном продвижении психологических практик в жизнь. Как известно из практики продвижения психоанализа, когда серьезные трудности создает сам пациент-невротик. Он изначально занимает двойственную позицию: обращается за помощью к психотерапевту, но при этом включается в «борьбу» за сохранение своих жизненных установок и демонстрирует страстное желание сохранить устоявшийся привычный стереотип жизни, усвоенный им стиль межличностных взаимоотношений и не допустить его изменений. Внедрение психологических практик воспроизводит примерно тот же универсальный механизм общечеловеческой стратегии защитного поведения в трудных для человека ситуациях. Освоение новых функций и психологических технологий взаимодействия традиционно обусловлены разнообразными противоречиями и, казалось бы, достаточно неожиданными и непреодолимыми препятствиями и парадоксами. В свое время образовательные учреждения также долгий период времени оставались закрытыми и недоступными для любых изменений и для психологических исследований, а когда появились первые выпуски школьных психологов, то далеко не все директора школ проявили инициативу в предоставлении рабочих мест для них. Позитивные изменения стали происходить лишь после того, как школьный менеджмент стал осознать пользу деятельности школьного психолога для учебно-воспитательного процесса и его управления. Можно не сомневаться, что аналогичные процессы будут происходить и в пространстве продвижения практики организационной психологии. Особенно важно отметить, что существующие трудности предъявляют повышенные требования, прежде всего, к квалификации самих практикующих организационных психологов, к творческим формам их участия в производственной деятельности, к проявлениям ответственности в контексте своей адаптации к конкретным обстоятельствам и особенностям взаимодействия.
Основное поле деятельности практикующего организационного психолога в настоящее время – это психологическое сопровождение служебной деятельности и работа с персоналом организации и менеджментом среднего уровня. Появились новые направления деятельности менеджмента, ориентированные на планирование человеческих ресурсов с учетом длительных сроков и ростом качества труда. Отбор и поддержка квалифицированного и высоко мотивированного персонала является ключевым условием эффективности любой организации.
Существующие возможности исследования личности в современной психологии являются достаточно избыточными. Это необходимо и важно, с одной стороны, для самой психологии в целом как достаточно молодой науки. Однако, с другой стороны, организационному психологу важно не потерять основной смысл того, ради чего следует систематически проводить психологические исследования в организациях. Текущие исследования необходимы для выявления возникающих противоречий, для анализа соответствия происходящих изменений кадрового ресурса по отношению к производственным требованиям, для сохранения и инициирования роста личностных возможностей персонала по отношению к делу и к совершенствованию организационно-психологической активности персонала.
В психологии идея активной роли сознания впервые была высказана С. Л. Рубинштейном в рамках субъектной парадигмы, в которой психическое рассматривается не только как отражение мира, но предусматривается творческая и преобразующая роль самого человека в мире. Деятельность осуществляется не при любой степени активности, а только при наличии интереса к делу, к событиям; противоречия возникают вследствие несоответствия характера активности и способов самореализации [49; 50]. В рамках задач организационной психологии важно очертить контуры и возможные грани такого несоответствия.
Наиболее важная зона внешнего и внутреннего соответствия/несоответствия в организационном поведении обусловлена ценностными характеристиками персонала. Ценности представляют собой индивидуальный и свободный выбор, форму включения общественных ценностей в активность личности. Они функционируют в качестве эталонов для оценки, для осознанного и неосознанного измерения допустимости социальных действий и переживаний социальной ответственности. Ценности дают возможность отграничивать значимое и существенное от незначимого и несущественного в конкретном событии и создают условия, инициирующие принятие на себя ответственности и реализации действий в силу внутреннего убеждения, а не социального давления и контроля. Именно ответственность дает личности чувство свободы от давления общества и внешнего контроля. Ответственность выступает как способность личности к организации деятельности, жизни в соответствии с принципами человечности и, несомненно, предполагает усилия самой личности, выбор ею способа реализации этичности в своих действиях. Одни люди берут на себя ответственность за задачи одного масштаба – за задачи, связанные с поддержкой близких людей; другие способны бороться за улучшение жизни многих людей; третьи – берут ответственность только за свою собственную жизнь [1].
В психологии под личностью подразумевается некоторое интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы индивида и сообщающее его поведению необходимую последовательность поступкам и устойчивость поставленным целям. Ценностные ориентации являются важнейшим звеном внутренней структуры личности и ее системной организации. В силу системного механизма ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим и детерминирующим поведение и деятельность человека. Регулирующая функция ценностей охватывает все уровни активности личности. Ценности представляют собой основной канал усвоения духовной культуры общества и превращения их содержания в мотивы практического поведения. Невозможно представить ценности как некое изолированное образование, не учитывающее их включенность в систему психологических процессов, состояний, качеств. Они определяют направленность внимания, воли, интеллекта, характер действий и способов решения практических вопросов; они функционируют не только как способы рационализации поведения, но и как присущие личности шаблоны для оценок допустимости социальных действий в конкретных жизненных обстоятельствах. Ценности корректируют процессы целеполагания человека, упорядочивают осмысление образа мира, сопровождают процесс социализации, который происходит на протяжении всей жизни человека и содержит «внутренний до конца не разрешимый конфликт между мерой приспособления человека к обществу и степенью обособления его в обществе» [38, С. 16].
Жизненный опыт кристаллизуется в результатах обобщенных типичных ситуаций: что человек дает жизни; что он берет от жизни; какую позицию занимает по отношению к судьбе, которую не состоянии изменить [1]. Все выделенные жизненные принципы наиболее ярко и очевидно проявляются в особенностях мало осознаваемых установок социального восприятия и социального поведения, а их анализ позволяет наиболее продуктивно выстроить стратегию психологической диагностики.
Американскому исследователю Э. Берну удалось наиболее выразительно описать типологию жизненных установок, которые оказываются заданными комбинациями самооценок и оценок окружающих людей, а следствиями этих согласованных связей являются стили эмоциональных способов взаимодействия, выбор жизненных стратегий индивидуального поведения в межличностном взаимодействии. Особо отметим, что о роли и месте стилей в социологии и социальной психологии пишет С. Московичи: «Вообще наука утверждается именно как стиль так же, как искусство подчиняется определенной художественной технике, а литературный жанр – формам композиции» [37, С. 334]. В психологии были выделены следующие стили согласованности установочно-поведенческих ценностных ориентаций и стратегий целеполагания, особенностей самосознания и эмоциональной регуляции взаимодействия.
1. Жизненная установка «я в порядке и все в порядке» характерна для той группы людей, которые относятся к себе преимущественно позитивно. Они склонны чувствовать себя удовлетворенными своим социальным статусом и своим положением среди окружающих людей, довольствуются тем, что имеют. В своих воспоминаниях они сосредоточены на переживаниях интереса к новизне. Других людей они считают такими же способными, доверят им и уверены, что все люди могут добиваться хороших результатов и успеха в жизни. Они лишены сентиментальности и разборчивы в средствах достижения своих целей, способны действовать независимо и взаимодействовать со средой, умеют реализовать собственный потенциал, и устойчивы к воздействиям стресса.

