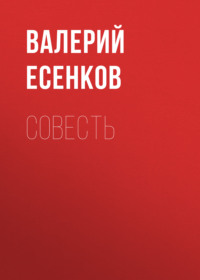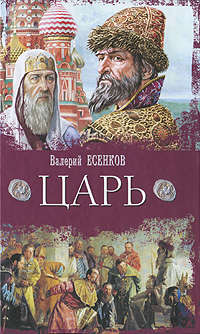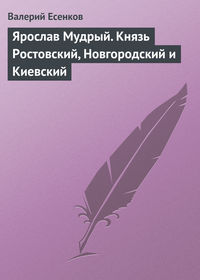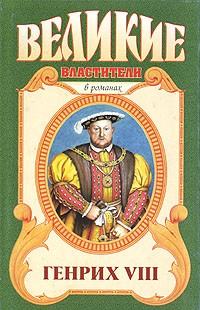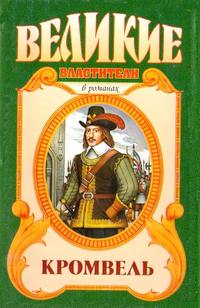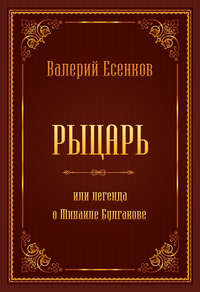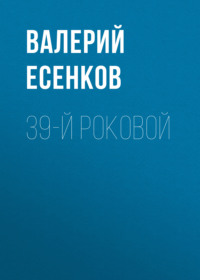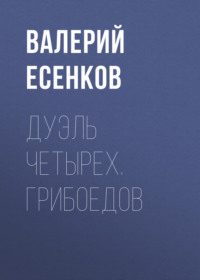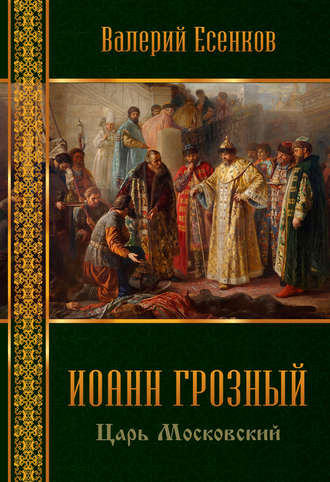
Полная версия
Иоанн царь московский Грозный
Глава восьмая
Испытания
Уже целое десятилетие, фактически всю свою пока что очень короткую жизнь, поскольку ему идет тринадцатый год, Иоанн впечатлительными глазами неопытного, беззащитного отрока, только ещё начинающего знакомиться с тем, что есть мир и что есть человек, наблюдает эти бесчинства, к счастью, не все, а лишь те, которые касаются лично его или творятся при нем, но и этих гнусных побоищ и свар более чем достаточно для того, чтобы отнестись критически к московскому высшему обществу и воспылать сердечным презрением к человеку, столь порочно способному грабить и убивать.
Уже самое первое впечатление, пробудившее его от младенческой спячки, оказывается чересчур необыкновенным, мрачным и сильным. Вы только представьте себе: маленький мальчик, трех лет, такой же нежный, такой же чувствительный сердцем, с таким же пылким воображением, как и отец, мирно играет в своей детской комнатке, естественно, нисколько не подозревая о том, что происходит в отцовских палатах, тем более не подозревая о том, что происходит в опочивальне отца.
Вдруг к нему вихрем врывается дядя Иван, матушкин брат, хватает отрока на руки, бросая на ходу какие-то непонятные ребенку слова или даже не говоря ничего, и тащит куда-то чуть не бегом темными тесными переходами, чего никогда прежде не делали с ним. Нетрудно предположить, что маленький мальчик крайне испуган, и такого испуганного, дрожащего всем беззащитным крохотным тельцем его внезапно вносят туда, где страждет в предсмертном полубреду почти неузнаваемый человек. Смрадный воздух, идущий от гноящейся раны ударяет в затрепетавшие ноздри, в глаза бросается тусклый свет горящих точно в густом тумане толстых свечей и странные вытянутые зеленоватые лица бородатых князей и бояр, которые плотной стеной окружают того, кто страдает и стонет и говорит на измятой постели, и сам любимый отце, исхудавший в несколько дней, с почерневшим лицом, с ввалившимися глазами, тоже, как все, обросший непривычной для него бородой, неподвижный, с безжизненными руками, с громадным золотым крестом на груди, отец, которого всегда видел нежным, ласковым, жизнерадостным, подвижным, живым, которого любил детской, то есть самой чистой и крепкой на свете любовью. И этот странный, чужой, непонятный отец с величайшим трудом приподнимает золотой маслянисто мерцающий крест и чужим, изменившимся, сдавленным голосом говорит неизвестно о чем:
– Буди на тебе милость Божия и на детях твоих! Как сам святой Петр благословил этим крестом прародителя нашего, великого князя Иоанна Даниловича, так им благословляю тебя, моего сына.
Знаком поручает несмышленого отрока Троицкому игумену Иоасафу да боярыне Аграфене, мамке его, и просит ещё не вошедшего в разум питомца неусыпно, неустанно беречь.
Не успевает трехлетний отрок сообразить, что за событие совершается в мрачной опочивальне, как вводят под руки его мать, которая громко, надрывно рыдает и сама не в силах идти, Опять-таки не своим, каким-то визгливым голосом молит она, непривычно обращаясь к отцу:
Государь великий князь! На кого меня оставляешь и кому приказываешь детей?
И этот незнакомый отец не своим голосом говорит, что благословляет сына своего государством и великим княжением, а ей отписывает в духовном своем завещании, как отписывали великим княгиням и прежде, то есть единственно вдовий удел, отчего матушка начинает ещё громче рыдать.
Такие сильные, такие неподъемные для детского ума впечатления никогда не проходят бесследно. Одного такого впечатления более чем достаточно для того, чтобы нанести неизлечимую рану ещё хрупкой, легко уязвимой детской душе и навести внезапно, болезненно, резко пробудившийся ум на тревожные, мрачные, бессильные размышления. Но ещё более непонятные, более сильные впечатления начинают на него валится обвалом, что ни день, что ни час, и всё его прежде такое уютное, такое счастливое детство вдруг превращается в непереносимый, истинно изуверский кошмар.
Мало того, что куда-то в незримую неизвестность ни с того ни с сего пропадает любимый отец. Проходит всего несколько дней после устрашающей сцены в опочивальне, как его облачают в какие-то тяжелые блистающие одежды, каких он прежде никогда не носил, с какой-то особенной важной повадкой ведут в успенский собор, полный празднично разодетого духовенства, князей, бояр и посадских людей, служат торжественную обедню под медный перезвон великого множества ближних и дальних колоколов, по её окончании к нему медлительно приближается митрополит Даниил в расшитом золотом облачении, дает целовать золотой крест и благословляет его держать в своей державной руке Московское великое княжество, а ответ за него давать единственно Богу, затем первейшие из князей и бояр подносят ему диковинные подарки, каких он тоже прежде никогда не видал, и если он, кроме глубокого изумления, ещё что-то выносит из этой величественной церемонии венчания нового московского великого князя, то лишь неизгладимое ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности, крайне вредное для его незначительных лет, способное исказить любую натуру своей преждевременностью, поскольку такое ощущение приходит без малейших усилий с его стороны, без каких-либо личных заслуг, просто так, по одному случайному праву рождения.
После столь пышно и громогласно совершенного торжества трехлетнего отрока возвращают будто и не было ничего в его прежнее состояние, в его детскую комнатку, к его нехитрым игрушкам, к его мамкам и нянькам, и оставляют его одного, не имея нужды интересоваться его пока что никому не нужным существованием, что не может ещё более не сбить с толку слабый детский умишко, не может не сделать это преждевременное ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности болезненным, опять-таки непосильным для неокрепшей, неопытной, не поддержанной знанием нравственного закона детской души.
Первое время с ним часто бывает его горячо любимая матушка, молодая, красивая, самое имя которой всегда окружено для него каким-то особенным ореолом, затем в покоях всё чаще появляется какой-то незнакомый мужчина, затем бесследно исчезают два дяди, несколько ближних князей и бояр, затем и матушка беспричинно покидает его, то есть в течение нескольких лет она продолжает жить где-то рядом, в княжеском тереме, однако не с ним, без него, ушедшая с головой в иные дела, более интересные более важные для неё, чем её маленький сын, а единственным участником его детских игр становится его младший брат, несчастный страдалец, глухонемой от рождения, который всё молчит да молчит, не слышит и не понимает его.
Если бы его так и оставили на несколько лет одного, если бы никогда не извлекали из небытия, он, по всей вероятности, очень быстро забыл бы о своей чрезвычайной, чрезмерной значительности и не стал бы ломать себе головы безответным запросом, отчего же он в таком случае абсолютно неинтересен, безразличен для всех. Однако время от времени, всегда внезапно, всегда впопыхах и небрежно, ничего хоть бы одним словом не объяснив, к нему прибегают, вокруг него суетятся, его облачают в те же тяжелые блистающие одежды, с непонятной важностью вводят в боярскую Думу, сажают на узорчатое высокое отдельно стоящее кресло выше и впереди всех, представляют ему каких-то вычурно, не по-русски, несуразно одетых людей, то в чулках, в башмаках, в коротких штанах до колен, с пучками перьев на шляпах, с бритыми лицами, как у отца, то в пестрых халатах, с коротко стриженными черными бородами, с головами, обвитыми какими-то белыми тряпками, что-то необычное, странное говорят за него, дают подписать какие-то грамоты, принуждают во время обеда этим чужим людям с косыми глазами подносить чаши с медом собственными руками, и он по презрительным ухмылкам этих людей не может не ощутить, как глубоко, как отвратительно он унижен и оскорблен, а потом вновь надолго, на целые месяцы забывают о нем.
Совершенно естественно, что одинокий отрок, дитя, пяти, шести, семи лет, сданный на попечение мамок и нянек, которые стерегут каждое его побуждение, пресекают малейшую шалость и строго наставляют его, но не дают ему ласки, тепла, в его возрасте так же необходимых, как воздух и свет, всё больше привязывается к изредка появлявшейся матушке, ждет не дождется мимолетного видения её неизъяснимой прелести, её для него абсолютно сказочной красоты, жадно ловит каждый взгляд и каждое слово, млеет от каждого поцелуя, от каждого прикосновения её теплой женской руки и в конце концов обожжет, чуть не обожествляет её.
Однако злой рок преследует его с самого раннего детства, Ему не исполняется восьми лет, он не успевает ещё толком привыкнуть к потере отца, как внезапно, беспричинно для многих, беспричинно тем более для него, умирает и молодая, красивая мать. Он в отчаянии, заливаясь слезами бросается на грудь её друга, до того велико его горе и до того он страшится остаться уже окончательно и бесповоротно один в этом непонятном, неприютном, сурово испытующем мире, а мамки и няньки громко шепчутся между собой, что великую-то княгиню свет Елену Васильевну отравили.
В течение нескольких дней, радостных для него, чуть не счастливых, его мамка боярыня Аграфена Челяднина и её брат князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский не отходят от него ни на шаг, прислуживают ему, ласкают его, не знают, чем угодить, чем умягчить его безутешное горе, но и это горькое счастье человеческого тепла и внимания длится именно несколько дней. Уже неделю спустя вооруженная стража, гремя бердышами и стальными подковами высоких изогнутых каблуков, громко крича, непристойно бранясь, врываются в покои великого князя и, не обращая внимания на слезы и вопли перепуганного насмерть ребенка, грубо хватают и куда-то уводят и боярыню Аграфену и князя Ивана, с тем, чтобы уже никогда он их не увидел, и едва ли от него долго скрывается тайна их злодейской погибели. За что? Почему? Кто повелел?
Отныне в его детской жизни с поразительной внезапностью и быстротой сменяют друг друга не только сладкое ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности и горькое ощущение полнейшей, такой же чрезвычайной, чрезмерной заброшенности, ненужности никому, но и ужас насилия, который ему приходится пережить не раз и не два, а множество раз. То его тащат в тяжелых блестящих одеждах в боярскую Думу, отвешивают ему поясные поклоны и громко величают его, почти так, как в успенском соборе величает Бога красноречивый митрополит Даниил, то надолго забывают о нем, принуждая проводить недели и месяцы наедине со своими мрачными размышлениями, то вламываются к нему с бранью и криками и кого-нибудь уводят от него навсегда, то являются ненавистные Шуйские, усаживаются на лавку, вопреки тому, это он уже уяснил, что в его присутствии никто не должен, не имеет права, к тому же так непристойно и вольно, сидеть, облокачиваются на постель, которая когда-то принадлежала отцу и потому почитается им как святыня, кладут обутые ноги на кресла, на которых когда-то сиживали мать и отец, что он уже воспринимает как не смываемое ничем оскорбление, даже кощунство, то проникают, с опаской и тайно, в одиночку и вкупе, в его тщательно охраняемые покои первейшие из князей и бояр, кладут поясные поклоны, становятся на колени, наговаривают невероятные ужасы о своих недругах, раскрывают козни и заговоры, молят о милостях, о назначениях, о спасении близкой и дальней родни, без его воли и ведома попавшей в темницы Белаозера, Ярославля, Твери, Костромы, так что к нему возвращается сладкое ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности да разрастается уверенность в том, что его окружают враги.
Внезапно исчезает бесследно митрополит Даниил, который так часто благословлял его в Успенском соборе, имевший редкое право входить к нему в любое время и в любое время с ним говорить, о божественном, о нуждах церкви чаще всего, и протекает немало тревожного времени, пока до него добирается темная весть о плачевной участи первоблюстителя. Место заточенного Даниила занимает новый митрополит, игумен Троицкого Сергиева монастыря, когда-то, как он уже знает, крестивший его в православную веру, и этот новый митрополит неожиданно раскрывает ему злодеяния ненавистных издавна Шуйских и просит за Бельского, достойного человека и доблестного воина, верного воеводу. Ему внушают, что в Московском великом княжестве его слово закон, его одного: сотворится именно так, как он повелит. Он повелевает, в первый раз в своей жизни, и Шуйские смещены, а Иван Бельский возвращается в боярскую Думу и становится первым лицом в государстве, но первым только после великого князя, везде и во всем отдавая должное десятилетнему отроку, отчего возвращается к Иоанну приятное ощущение своей чрезвычайной, чрезмерной значительности.
Вдруг приходит глумливая грамота от крымского хана:
«Государского обычая не держал твой отец, ни один государь того не делывал, что он: наших людей у себя побил. После, два года тому назад, посылал я в Казань своих людей; твои люди на дороге их перехватили да к себе привели, и твоя мать велела их побить. У меня больше ста тысяч рати: если возьму в твоей земле по одной голове, то сколько твоей земле убытка будет и сколько моей казне прибытка? Вот и жду, ты будь готов; я украдкой нейду. Твою землю возьму, а ты захочешь мне зло сделать – в моей земле не будешь…»
В таком наглом тоне татары давно не ссылались в Москву. Между тем доносят лазутчики, что Крым и Казань и впрямь готовят совместный набег. Иван Бельский отправляет полки во главе с Шуйским во Владимир для прикрытия Москвы от Казани, другие полки уходят в Коломну, чтобы остановить нашествие крымских татар. До Москвы добираются двое плени ков, бежавших из Крыма, и приносят ужасную весть: Саип-Гирей поднимает орду, оставляя в становищах лишь женщин, стариков и детей, а с ним идут турки с пушками и пищалями, астраханцы, ногаи, азовцы, генуэзцы из Кафы, точно новый Мамай угрожает Москве.
Из Путивля высылают в дикое поле сторожи. Станичники находят в голой степи следы многих тысяч коней, говорят, тысяч сто. Другая сторожа на этой стороне Дона из укрытия видит, как идут татары орда за ордой, с утра идут до позднего вечера, а конца не видать.
Тогда в Коломну приводит большой полк князь Дмитрий Бельский. Всюду поднимается дворянское ополчение. Конные отряды со всех сторон подходят к Серпухову, к Туле, к Калуге, к Рязани. Во Владимир на помощь Ивану Шуйскому подходит Шиг-Алей с касимовскими татарами и конные рати из семнадцати городов.
Стремясь предотвратить панику среди посадских людей. Иван Бельский и митрополит Иоасаф используют авторитет и личность великого князя. Вновь его облачат в торжественные одежды и вместе с больным братом Юрием спешно приводят в успенский собор, где великий князь, в обычную пору скрываемый от простых прихожан стеной из пурпуровых тканей, должен публично молиться для ободрения растерянных подданных, и он, поставленный пред иконой владимирской Богоматери и мощами митрополита Петра, перепуганный, растерянный сам, но с ощущением своей чрезвычайной, чрезмерной значительности, громко плачет у всех на виду и обращается к Богу с молитвой:
– Боже! Ты защитил моего прадеда в нашествии лютого Тамерлана, защити и нас, юных, сирых! Не имеем ни отца, ни матери, ни силы в разуме, ни крепости в деснице, а держава требует спасенья от нас!
После долгих молений о милости Божией Московскому великому княжеству митрополит Иоасаф вводит его в боярскую Думу, и он, отрок десяти лет, уже начинающий осознавать, каких громадных сил разума, какой крепости в державной руке, каких жертв держава требует и ещё потребует от него, решительно обращается к тем, кто и без его обращения обязан его защищать:
– Враг идет: решите, здесь ли мне быть, а если быть мне не здесь, то куда удалиться?
В его присутствии, ещё в первый раз, первейшие из князей и бояр высоко толкуют о том, что в прежние грозные времена перед лицом неприятельского нашествия великие князья никогда не затворялись в Москве и что когда подступал Едигей, великий князь Василий Дмитриевич оставил властвовать на Москве князя Владимира Серпуховского и своих братьев, а сам ушел в Кострому собирать полки на подмогу, да Едигей погоню послал и едва-едва Бог помиловал великого князя, что к татарам в полон не попал, про нынешние времена нечего и толковать, ныне великий князь ещё отрок, никакой истомы не может поднять, не имеет сил и способности с места на место скакать для составленья полков.
Видя нерешительность и смущенье первейших князей и бояр, митрополит Иоасаф, не доверяющий им, отвечает тем, кто ищет опоры в примерах прежних времен, что нынче не отыщется безопасного места ни в Пскове, ни в Великом Новгороде, ни в Ярославле, ни в Галиче, ни в Костроме, вопрошает нестойких и слабодушных, уже не раз оставлявших без надлежащей защиты легко уязвимые украйны Московского великого княжества, на кого великий князь покинет Москву, где покоятся святые угодники, и заключает твердо, как истинный муж:
– Имеем силу, имеем Бога и наших святых, коим отец Иоанна поручил возлюбленного сын, унынию не предавайтесь.
Тогда единодушнее осеняет вечно слабодушных, вечно ненадежных подручных князей и бояр:
– Государь, останься в Москве!
И отрок, ещё только засевший за учебные книги, делающий всего лишь первые шаги в размышлении о смысле его назначения, однако, уже сознавая величайшую важность минуты, испытывая страшное волнение от сознания опасности и своей ответственности за безопасность Русской земли, отдает повеление готовить город к осаде, и те же подручные князья и бояре, которые ещё вчера по своей прихоти бесцеремонно и неурочно врывались в его неприкосновенные великокняжеские покои, чуть не до смерти пугая его, громко клянутся умереть за своего государя, за святые церкви, за домы свои.
Тут же призываются в Кремль городовые приказчики, им передается повеление великого князя. Обрадованные, что юный князь уже входит в возраст, гордые его повелением, они отправляются по вверенным их попечению слободам и концам, созывают посадских людей, велят готовить запасы, разбивают их на десятки и сотни, расписывают по вратным башням, по стенам и стрельницам, расставляют по местам пищали и пушки, и посадские люди, воодушевленные одним словом великого князя, клянутся на кресте за него и за домы свои крепко стоять и головы свои положить.
Уже татары приступают к Зарайску, что на Осётре, правом притоке Оки. Воевода Назар Глебов бесстрашно стоит в каменной крепости, бьет по татарам из пищалей и пушек, в ночной вылазке наносит им ощутимый урон, а пленных отправляет в Москву. Саип-Гирей принужден обойти неподатливый город. Орда во множестве высыпает на правый берег Оки, выставляет турецкие пушки и под их прикрытием готовится к переправе.
Но никакая опасность не способна охладить мятежный дух подручных князей и бояр. Не слыша над своей головой крепкой, державной руки, какая была у великого князя Василия Ивановича, они, ввиду неприятеля, затевают свару о старшинстве, не хотят вести вверенные им полки, а жаждут перейти на другие полки, в соответствии с тем, на каких полках ходили их деды и прадеды. Того гляди, татары переправятся, не встретив сопротивления, и в самом деле дойдут до Москвы.
Иоанн, юный отрок, безусловно верит крестным целованиям, данным в Кремле, поскольку ещё не имеет сурового, горького опыта действительной жизни, но проходит всего несколько дней и становится очевидным, что решительно никто из этих взрослых, именитых людей не торопится умереть ни за него, ни за домы свои, ни тем более за чуждое им Московское великое княжество, что воеводы, приведшие полки на Оку, никак не могут решить, кому быть первым, кому вторым или третьим, и тогда десятилетнему отроку составляют и дают на подпись послание, в котором он убеждает этих взрослых, позабывших о крестном целованье людей, чтобы они оставили личности, духом и сердцем соединились на отечество, за государя и веру, за Русскую землю, и заканчивает словами, которые не могут не возвысить его в собственном мнении:
«Обещаю любовь и милость не только вам, но и детям вашим. Кто падет в битве, того велю вписать в книги животные, того жена и дети будут моими ближними…»
Выслушав сердечное послание великого князя, вероятно, составленное красноречивым Иоасафом, бородатые воеводы обнимаются и чуть не плачут от умиления. В сущности, по-русски впечатлительные, добрые, поневоле запутанные в неповиновение и зло этим пресловутым благословением прародителей, они шумно толкуют между собой:
– Укрепимся, братья, любовью, помянем жалование великого князя Василия.
– Государю нашему великому князь Иоанну Васильевичу ещё не пришло время самому вооружаться, ещё мал. Послужим государю малому и от большого честь примем, а после нас и дети наши.
– Постраждем за государя и веру христианскую.
– Если Бог желание наше исполнит, то мы не только здесь, но и в дальних странах славу получим.
– Смертные мы люди: кому случится за веру и государя до смерти пострадать, то у Бога незабвенно будет, а детям нашим воздаяние будет от государя.
Только что готовые выдрать друг другу бороды до самого корня, просветлевшие воеводы просят друг и друга прощения, расходятся по полкам и пересказывают служилым людям послание великого князя, В ответ раздаются умиленные клики:
– Рады государю служить!
– Головы за христианство положим!
– Хотим пить с татарами смертную чашу!
Расстроенные было полки воодушевляются, приходят в должный порядок и с такой решимостью выступают вперед, на левый берег Оки, что в татарском стане поднимается паника, до того опустошившая и без того слабые души налетчиков, что татары ночью уходят, страшась сразиться с Москвой. Москва ликует. Москва торжественно празднует полную, бескровную и потому блистательную победу, тем более славную, что о московских победах давно не слыхать. Гудят, заливаются на сотнях колоколен колокола. Десятилетнего отрока вновь приводят в Успенский собор. В присутствии своих приближенных он возносит Всевышнему благодарственные молитвы за счастливое избавление отечества от иноверных, иноплеменных, затем именем того же отечества изъявляет свою державную признательность воеводам, и возвышенные внезапно налетевшей благодарностью чистосердечному отроку за светлое слово сами просветленные воеводы со слезами отвечают ему:
– Государь, мы победили твоими ангельскими молитвами и счастьем твоим!
Кто тверже прежнего не уверует после этих славных, неожиданных происшествий в Бога и в спасительную силу коленопреклоненных молитв? Кто не уверует в собственное могущество, в свою единственную ответственность перед Богом, перед отечеством и людьми? Кто не осознает высокости своего свыше определенного назначения? Кто не возвысится духом после таких восхвалений? То не ощутит в душе своей необыкновенную, всепобедную мощь? Кто не возрадуется совершённому подвигу? Кто не вознесется самыми радужными надеждами, не осветится самыми радужными мечтами о будущем?
Но не успевает он упиться громом победы, не менее значительной, не менее славной, чем победа на речке Угре, не успевает насладиться жарким сознанием только что совершенного подвига на благо Русской земли, возрадоваться, возвыситься духом, как его впечатлительная душа вновь грубо раздавлена и бесцеремонно, безжалостно втоптана в грязь. В неурочное время, в три часа до свету митрополит Иоасаф в лихорадке и суматохе поднимает его, полуодетого, полусонного ставит во главе кое-как собранного немногочисленного крестного хода, которым смело идет на вооруженных, пришедших в слепую ярость мятежников, возбуждает петь вместе с нестройным, потерявшимся хором, надеясь воодушевить своих немногих сторонников присутствием великого князя, но уже с шумом и гамом врываются те же, так недавно им восторгавшиеся князья и бояре и до зубов вооруженные новгородские конники, хватают митрополита, чтобы без права, единственно силой лишить его сана первоблюстителя, который дает и который может отобрать только освященный собор, не теряющий присутствия духа Иоасаф, выказав неожиданно прыть, скрывается от мятежников на укрепленном митрополичьем подворье, разъяренные новгородцы швыряют в узорчатые окна каменья, сопровождая свои богохульские действия непристойными изречениями языческих предков, точно ещё вчера не восхищались ангельскими молитвами, находчивый Иоасаф и тут ускользает от взбесившихся прихожан на подворье Троицкого Сергиева монастыря, и лишь в этом святом месте вооруженные бунтовщики хватают этого святого для каждого православного старца и заточают в келье Кириллова белозерского монастыря.
Нетрудно понять, что вновь перепуганные до смерти отрок, уже сознающий, что он великий князь, государь, верховный правитель всей Русской земли, ответственный за судьбу своих подданных, способный возглавить осаду Москвы, воодушевлять и двигать полки, одерживать блистательные победы над вековечным врагом, оказавшись, посреди ночи, невольным свидетелем непотребных, диких, непристойных бесчинств, испытывает и ужас, и бесчестье, и злобу, и жажду мести, и полнейшее бессилие перед теми, кто не устрашается посягнуть на неприкосновенную особу митрополита, невозможность вмешаться, без промедления прекратить безобразие, как от него требует долг и обязанность великого князя, наказать непокорных, восстановить поруганную у него на глазах справедливость, водворить порядок, покой, на страже которого он поставлен не только отцом, но и Богом, в чем его успевает наставить благочестивый Иоасаф и что успевают подтвердить сами подручные князья и бояре.