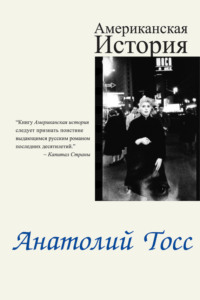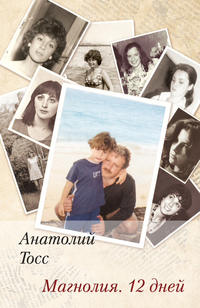Полная версия
Фантазии женщины средних лет

Анатолий Тосс
Фантазии женщины средних лет
Посвящается М. Д.
Часть первая
Мне нравится это ощущение. Я чувствую себя странно неуклюжей, неуклюжей до несуразности, мне кажется, что части моего тела, всегда такие слаженные, всегда так ловко взаимодействующие друг с другом, сейчас подменены новыми, непривычными и непритертыми.
Я запахиваю куртку, мне не то чтобы холодно: сырой, осенний и оттого тягучий воздух легко проходит сквозь одежду, и… какое же было хорошее слово? Я закрываю ладонями лицо, пытаясь сосредоточиться, какое же было слово… Это все лес, я так и не открываю глаза, это все он бесчисленными своими отростками, всеми этими переплетенными листьями, ветками и корнями рассеял меня, пытаясь подчинить, чтобы потом, подчиненную и подавленную, незаметно прибрать, присоединить к своей бесконечной системе.
«Промозглый», неожиданно выстреливает потерянное слово. Конечно, промозглый, все здесь промозглое: и воздух, и непрерывная сырая жухлость под ногами, и поскрипывающее покачивание деревьев, и сам этот осенний лес, и я, и мысли мои. Мне нравится это слово, оно из тех, что звучит именно так, как и чувствуется, в самом его звуковом построении уже живет сырость и зябкость, и я повторяю его про себя, смакуя: «промозглость, промозглый, промозглая». Я еще плотнее закутываюсь в куртку и, засунув руки глубоко в карманы, чтобы удержать последнее оставшееся внутри меня тепло, бреду в сторону дома, неосторожно ступая ботинками по зыбкой, чавкающей поросли под ногами.
Я вновь вспоминаю сон, который приснился мне ночью. Он настойчивый, он снится мне уже давно, всегда немного разный, но я снова и снова просыпаюсь в поту и в слезах и не могу справиться с дрожью. Так случилось и сегодня, может быть, именно поэтому меня знобит сейчас, просто озноб не прошел с того момента, как я открыла глаза, а сон еще витал надо мной, не успев раствориться.
Все началось с того, что я стояла перед окном в большой комнате и смотрела на опускающееся в океан солнце. Томительная красота заката приковывала взгляд, но я почему-то обернулась, в дверном проеме стоял Стив, небрежно прислонившись к косяку. Я сразу узнала его по подчеркнуто расслабленной позе, по насмешливой улыбке, а когда сделала шаг вперед – по шальным, смеющимся глазам. Он оттолкнулся плечом от косяка, движение было таким же вызывающе расслабленным, немного ленивым, и шагнул навстречу. Теперь он стоял так близко, что я слышала его дыхание, оно щекотало мне щеку.
– Ты как? – спросил он. Я кивнула, стараясь получше разглядеть его. – Да, Джеки, давно мы не были в этом доме. Много лет прошло.
– Много лет, – согласилась я.
– Мы были счастливы, помнишь? – Он сделал еще один шаг в мою сторону.
– Не надо, – сказала я, пытаясь отстраниться, прикрываясь от него рукой, но он перехватил ее и сжал, я даже почувствовала боль, и повернул к себе, лицом к лицу, дыхание к дыханию.
– Почему не надо? – Его прерывистый голос, казалось, волновался, но я знала это притворное волнение, оно таило в себе скрытый подвох. – Я поцелую тебя. Тебе понравится. Тебе ведь всегда нравилось. Да?
Он издевался, я знала это, он отлично понимал, что я не могу отказать. Поэтому и спросил, поэтому и улыбался. Ноги не слушались меня, я не могла стоять, я и не стояла, это он держал меня. Потом я почувствовала касание его губ, их запах и вкус – все одновременно. Я все ждала, когда он вберет меня своим ртом, сомнет, скомкает, но ощутила только касание, легкое, дразнящее касание.
– Пойдем, – выдохнула я и сама потянула его за руку, – пойдем, я не могу больше.
Но он не двигался, он смотрел на меня и улыбался уголками губ.
– Конечно, – согласился он, – у тебя ведь давно никого не было. Конечно, ты не можешь больше ждать. Ведь так?
– Да, у меня давно никого не было, очень давно. Но дольше всего у меня не было тебя.
Мне не следовало так говорить, но я сама не ведала, что произносят мои онемевшие губы. Теперь он засмеялся, я знала, что этот смех не к добру, и не верила ему, в нем было больше издевки, чем веселья. Я попыталась вырваться, но Стив держал меня слишком крепко.
– Ну конечно, – он просто хохотал мне в лицо, – как я мог быть у тебя, когда последнее время, я бы сказал, достаточно длительное время, меня как бы и нет. Да и как я могу быть, если ты убила меня. Слушай, я так и не понял: зачем? Зачем ты убила меня?
– Нет! – Я закричала, пытаясь прорваться сквозь его смех, сквозь его слова, сквозь его руки, что так крепко держали меня.
– Конечно, да. – Он был спокоен и весел, как будто живой. – Конечно, убила. И не вырывайся, я все равно не отпущу тебя, никогда не отпущу.
Я затихла на мгновение, и, может быть, поэтому он выдержал паузу, тоже на мгновение.
– Ну ладно, убила меня. – Теперь он не смеялся, голос стал сухим и серьезным, а смех отступил в глаза. – Ну ладно меня, я отчасти сам того хотел, но зачем ты этого красавчика убила? Как его звали? Дино, кажется. Ведь он любил тебя преданной, совершенно беззащитной любовью. Он вообще ни в чем не был виноват…
– Пусти. – Я снова попыталась закричать, но слезы захлестывали лицо, и еще эта дрожь. – Отпусти меня, я никого не убивала, ты знаешь, что не убивала.
– Конечно, убивала! Всех, кого ты любила, абсолютно всех. И еще этого, как его, я забыл имя, которому все было нипочем, лихой такой. – Он снова хохотнул. – Его, наверное, непросто было, но ты это здорово сделала, мастерски, ты просто мастер, я в каком-то смысле даже горжусь тобой. – Глаза Стива просто сияли смехом, излучали его.
– Зачем ты так? – простонала я. – Ты же знаешь, что это не так. Ты же все знаешь! – Мое тело уже не просто дрожало, а билось. «Как в конвульсиях, – подумала я, – как в эпилепсии».
– Конечно, знаю, поэтому и говорю.
– Нет, неправда, все это неправда. Уйди, я ничего не хочу я ничего не могу сейчас… – я снова сбилась, – …ведь ты знаешь, что все не так…
– Дай я поцелую тебя еще раз, последний. – Его голос скрывал хитрость, хитрость и издевку.
– Нет, я не хочу! Я не хочу пусти меня! Я не убивала, слышишь, никого не убивала!
– Да ладно тебе, убивала, не убивала. Какое это теперь имеет значение? Ведь никто не знает. Только ты и я, больше никто, а я никому не расскажу. – Стив снова брызнул смехом. – Потому что, – он наклонился ко мне совсем близко и прошептал: – Потому что я мертвый, ты же убила меня. – А потом быстро почти без перехода: – Да ладно, дай губы, ты же хотела, ведь только что хотела.
– Нет, – кричала я, – нет!
А потом мне стало нечем дышать, я начала задыхаться, видимо от слез, и открыла глаза. Я лежала мокрая, дрожа от ознобного холода, мне требовалось время, чтобы понять, что это всего лишь видение, еще один сон. Мне нужно было, чтобы свет утра, и тишина комнаты, и ее покой заполнили меня и вытеснили, насколько возможно, зыбкий ночной кошмар.
Может быть, я зря приехала сюда, думаю я, отыскивая взглядом в траве заросшую тропинку, ведущую к дому. Я прожила здесь почти три недели, а эти ужасные сны хоть и стали реже, но не покинули меня совсем. Это врачи советовали мне оторваться от преследующего меня мира, уехать куда-нибудь в глушь, туда, где бы меня никто не беспокоил. Они называли это реабилитационным периодом и говорили, что мне это необходимо, что так я быстрее поправлюсь.
Именно тогда я вспомнила об этом доме в лесу. Впрочем, я никогда и не забывала о нем, он и раньше, много лет назад, когда я приезжала сюда со Стивом, был привязан ко мне всеми своими шорохами, он, как заботливый дедушка, голубил и ласкал меня, укутывая теплом и несуетным уютом. Старый и сам дремучий, как лес, подступающий к нему, и незыблемый, как океан под ним, этот дом любил лелеять беззаботную, веселую девочку, видимо, она развлекала и омолаживала его, и я знала, даже теперь, по прошествии стольких лет, он помнит обо мне и примет. Я стала наводить справки, я боялась, что кто-то мог поселиться в нем, но мне повезло, дом по-прежнему пустовал. И я сняла его.
Вот так и случилось, что я прилетела в Мэйн. Меня встречала машина, и шофер пытался разговориться со мной во время долгой дороги, а потом, когда мы приехали, достал из багажника чемоданы. Он предложил внести их в дом, но я отказалась: мне хотелось, чтобы он быстрее уехал, я хотела остаться одна.
Дом принял меня, как и обещал, я чувствовала себя спокойно и непривычно уравновешенно, как очень давно не чувствовала. Просыпалась я с рассветом, когда он наполнял спальню душистыми и ароматными лучами, тут же проникая в темно-медовые бревенчатые стены, и растворялся в них, придавая им, да и всему воздуху вокруг, нежно-янтарный отблеск. Я сразу вставала, ожившая и свежая, и, набросив теплый халат и заварив чай, спешила на веранду, нависающую над океаном.
Плетеное кресло-качалка ожидало меня, солнце, притупленное утренней осенней дымкой, поднималось за спиной, подкрашивая уже не такие стальные и не такие белесые наплывы океана. Я могла сидеть долго, даже после того, как мое тело уже полностью покидало постельное, сонное тепло; мое кресло мерно поскрипывало подо мной, и слух мой, и взгляд, и сознание были расслаблены и успокоены.
Потом, когда мой халат начинал пропускать осеннюю утреннюю свежесть, я шла завтракать. На второй день после приезда я на удивление легко нашла дорогу на ферму, о которой помнила еще со старых времен, и договорилась с хозяином, что раз в три дня он будет привозить мне молоко, сыр, помидоры, хлеб и еще что-нибудь, такое же простое и вкусное.
После завтрака я лениво натягивала непривычно толстые штаны и такую же обувь и шла на прогулку в лес. Это был осенний лес и по цвету, и по запаху, вернее запахам, разным, но всегда сырым, даже если стоял солнечный день. Из всех особо выделялся запах грибов, густой и липкий. Я пыталась найти подходящее для него слово, но ни «пряный», ни «горький» не подходило, и я перестала искать и стала думать о нем просто как о запахе: какая разница какой, он все равно кружил мне голову.
Опьяненная, я возвращалась домой, и засыпала прямо на диване под убаюкивающее тиканье стенных часов, и так же легко просыпалась, не утомленная и не разбитая, как обычно бывает от дневного сна. Потом я готовила себе нехитрый обед и ела с удовольствием, а закончив, снова выходила на веранду. Обычно к этому времени солнце уже жалось ближе к воде, я знала: еще часа два, и оно начнет трогать воду своим нижним краем и потом попытается растворить ее в себе, но само увязнет в океанской гуще, и океан одолеет и поглотит солнце, пускай всего лишь на ночь, но поглотит.
Я брала с собой книгу, в доме нашлось несколько книг, разных и по жанру, и по содержанию, совпадающих, впрочем, только в беспечном желании меня развлечь. Я вынимала их из старого шкафа, в незапертой двери которого зачем-то торчал ключ; я все равно не могла провернуть насквозь проржавевший замок.
Я читала до тех пор, пока сумерки не опускались сначала на веранду, затем на меня, и лишь потом океан испускал свой последний, почти что предсмертный отблеск и тоже погружался во мрак. Я еще сидела какое-то время не двигаясь, пытаясь по звукам угадать, изменились ли формы океанского движения, и лишь убедившись, что нет, темнота не нарушила ничего, я поднималась и уходила в тепло дома, оставляя на веранде одиноко раскачивающееся под ветром кресло.
Спать я ложилась рано, и нежная прохлада постельного белья, которое я привезла с собой, ласкала кожу, я гасила свет, и еще какое-то время воздушные звуки ночного леса за окном удерживали мое сознание, но потом темнота съедала и их.
Постепенно размеренность и успокоенность дня стали проникать в меня, я действительно чувствовала себя лучше, если бы только не эти сны. Полные страшной, пусть и искаженной правды, они не отпускали меня, захватывая в ночи легко уязвимую, и я просыпалась, дрожащая и мокрая от слез кошмара. Я лежала с открытыми глазами, бездумно направленными в потолок, и тогда мне казалось, что ничего на свете, даже этот дом, не в силах вырвать меня из пропасти удушающего прошлого.
Я возвращаюсь домой и, как всегда, по заведенному правилу, хотя какие здесь могут быть правила, скорее потребности, сладко засыпаю. Проснувшись, встаю и подхожу к книжному шкафу. В его темной стеклянной дверце (мне чудится, что и само стекло вместе с деревом потемнело от времени) отражается мое худое, чуть удлиненное лицо, с широким лбом и высокими скулами, еще больше подчеркнутыми ореолом небрежно разбросанных, чуть волнистых волос. Прозрачное стекло в книжном шкафу – это не реалистичная амальгама зеркала, его изображение туманно и ненадежно, оно перемешано с чем-то другим, что за стеклом, а может быть, и в нем самом, в его замутненной толще. Оно лишь очерчивает контурами, как отражение на воде, и кажется, проведи по стеклу рукой, и изображение мое будет смыто, рассеяно, как, может быть, буду смыта и рассеяна я сама.
Только вчера я закончила очередную книгу, и сейчас мне надо подыскать что-нибудь новое. Мне все равно что, у меня нет предпочтений, чтение для меня сейчас больше связано с созерцанием, оно – всего лишь ритуал, ежедневная незаменимая рутина, оно вошло в мою трехнедельную потребность, как океан, как этот лес, как дом.
Я с удивлением разглядываю тесный ряд книг, выстроившийся на полке, – неужели я прочитала их все? Мне сложно поверить в это еще и потому, что я отвыкла доверять взгляду, и я поднимаю руку и прохожу пальцами, перебирая каждый переплет в отдельности.
«Ах, как обидно, – шепчу я себе, – ведь я не могу не читать. Не может быть, чтобы в этом большом доме было так мало книг».
Пока я шепчу, я открываю все возможные ящички и тумбочки, все дверцы и крышки, и ничего нигде, даже журнала, даже старой газеты. Я останавливаюсь посередине комнаты. «Где же еще искать? – Я даже думаю суетливо, лихорадочно и суетливо. – Может быть, посмотреть в подвале? – говорю я себе и тут же соглашаюсь: – Конечно, надо посмотреть в подвале».
Подвал, как и любой подвал, полон рухляди и ненужных, неуклюжих предметов. Но сейчас мне нужна книга, и я снова начинаю рыскать в завалах полуразрушенной мебели, путаясь в окаменевших от времени зарослях паутины, вдыхая гниловатый запах застоявшегося подвального воздуха. Я все же нахожу ее, лежащую на старой, покосившейся полке, и, вознагражденная, поднимаюсь назад к свету, машинально протирая от пыли потрепанный корешок.
Видимо, поиск занял много времени, солнце уже опустилось, оставив мне всего два часа дневного света, и я спешу к моей океанской качалке, она уже заждалась меня, одинокая и недвижимая, на веранде. Я сажусь, отдавая себя ее ритмичному колебанию. Со стороны, наверное, это похоже на сцену из мелодрамы: загадочная, красивая женщина смотрит на заходящее в океан солнце в предвкушении непредвиденной, но, по правилам игры, неизбежной романтической встречи.
А что, думаю я, все совпадает – и загадочная, и, чего уж там стесняться, красивая. И закат на месте. Вот только встречи не произойдет, встреча не вошла в сценарий, для нее не нашлось героя.
Не надо об этом, прерываю я себя и заставляю завороженный взгляд оторваться от распростертого океана. «Распростертый, простираться, прострация», – продолжаю я перебирать слова, открывая книгу.
Это странная книга, я только сейчас заметила. Она самодельно переплетена коленкоровой обложкой и напечатана не то на пишущей машинке, не то на компьютерном принтере. На раскрытой странице – две главы, и каждая из них пронумерована трехзначным числом. Я перелистываю несколько страниц, там тоже пронумерованные главы, даже не главы, догадываюсь я, скорее не связанные друг с другом параграфы. Но мне все равно, параграфы так параграфы, номера так номера, какая разница, к тому же глаза мои уже нацелились на какой-то случайный номер.
193
Я захожу в антикварную лавку и протягиваю ее владельцу который сам похож на побитое молью покрывало, свое прошедшее, прожитое время.
– Э…э, – кряхтит и причмокивает он, – уж больно ваше прошлое потрепано и обветшало, смотрите, здесь даже прожжено чем-то. Вы что, курите?
Он вскидывает на меня неожиданно пронзительный взгляд, острый, как и треснутые стекла съехавших на его бугристый нос очков. Я молчу.
– А здесь, – он так и не дождался ответа, и в его движениях вновь появляется цепкая деловитость, – смотрите, все в складках, в морщинах, хотя бы прогладили перед тем, как приносить. А тут, – теперь он трет загрубевшими пальцами тонкую поверхность, – сами смотрите, совсем протерлось.
Он еще говорит что-то, но я не слушаю, я понимаю, что он выжидает, подводя меня к главному.
– Я не могу вам много за него дать, – насупившись, наконец говорит он.
– Да, – соглашаюсь я. Мне не хочется спорить, принесенное мною время действительно не ахти, могло бы быть и лучше. К тому же я не знаю, что именно старик собирается дать мне взамен.
– Нет, – убежденно проговаривает антикварщик, удивленный и даже, кажется, разочарованный моим быстрым согласием, и как бы по инерции продолжая уговаривать: – Много дать я вам не могу. Вот если бы ваше время было в таком же идеальном состоянии, как у того господина.
И он указывает на мужчину, который осторожно роется в груде забытого старья, стараясь не испачкать черные, как мне показалось, лакированные, перчатки. У него гладко выбритое, худое, бледное лицо с узким, длинным ртом. На нем черная накидка, белая, с жабо рубашка, цилиндр, который, заметив мой взгляд, он учтиво приподнял.
– Вот если бы ваше время было такое же, – продолжает старьевщик, – ровное, гладенькое и аккуратное, почти не тронутое, тогда… А так, к сожалению, не могу.
Я по-прежнему не понимаю, о чем говорит старик, и, хотя мне неловко за свое невежество, все же спрашиваю:
– А что, простите, я получу взамен?
Лавочник непонимающе смотрит на меня.
– Как что? Новое время, – и видя, что я так до конца и не понял, поясняет, терпеливо, как ребенку: – Взамен вы получите новое время.
– Простите. – Я улыбаюсь, чтобы смягчить неловкость. – Что вы имеете в виду? Что значит «новое время»?
Мой собеседник смотрит на меня с досадой.
– Вы что, в первый раз? Вы получите ваше новое время, иными словами, свое будущее.
Я все еще не понимаю.
– Но это же антикварная лавка! Откуда у вас новое?
Старик прищуренно улыбается, вздыхает и говорит, сморщив и так морщинистый лоб:
– Я же сказал «ваше новое», но это не означает, что оно вообще абсолютно новое. Оно вполне может быть чьим-то старым. Видите ли, чье-то старое является чьим-то новым, и наоборот. – И, так как это звучит неясно, добавляет: – К тому же мы всегда его реставрируем, так что оно выглядит как новое. Вы и не заметите разницы…
_____________________________________________
Мой взгляд отрывается от листа и переходит на воду. «Что это я читаю? Что за пустое, нелепое умничанье? – Я чувствую, что начинаю нервничать. – Какой больной все это написал, аккуратненько напечатал и даже переплел?
И не лень печатать-то было? Надо же, есть люди! Что же это за странная книга такая? Неужели она вся состоит из нудных, ненужных, но требующих внимания рассуждений?» Я снова перелистываю несколько страниц, похоже, что везде одни и те же параграфы и номера.
Я смотрю на океан, он не такой, как эта книга: он не мелочный, он без параграфов, без номеров и без мелких разрозненных мыслей, он один, неделимый и ненумеруемый, он ни в чем не пытается разобраться и ничего не расставляет по местам. Он цельный и целостный, и в нем есть мысль, но она одна, необъятная и непостижимая, не требующая концентрации. Она вообще ничего не требует, потому что вечна, и оттого океан накатывает и накатывает, и так будет всегда.
Во мне поднимается раздражение к книге, может быть потому, что она так очевидно уступает океану. Но и другие тоже уступали, не понимаю я и тут же отвечаю: но они и не пытались соперничать, а эта мельтешит и пробует напрячься, но до чего же она смешна своими безнадежными потугами. Я смотрю в океан, вглядываюсь долго, пристально, и он постепенно сглаживает мое возбуждение. Я еще сижу какое-то время, всматриваясь в него, а потом, скорее по инерции, снова опускаю голову и так же по инерции останавливаюсь взглядом на другом нумерованном параграфе.
187
Однажды я отправился с двумя моими приятелями на воскресный ланч. Ресторан порекомендовал я, предупредив заранее, что еда там средняя, зато по выходным выступают музыканты и играют либо легкий джаз, либо что-нибудь более классическое. Мои товарищи согласились, и мы зашли и сели за аккуратный столик подальше от маленькой сцены, чтобы музыка не мешала разговору.
На сцене находились двое. Женщина средних лет с неаккуратно подобранными седеющими волосами сидела за пианино, другая, со скрипкой, почти девочка, нескладная и смущенная, стояла возле старшей напарницы. Было очевидно, что для девчушки выступление перед неприхотливой ресторанной публикой было в новинку, и она нервничала, как нервничает любой, делая что-то в первый раз. От этого ее неловкость и угловатость еще отчетливее проступали наружу, она выглядела почти комично; худенькая, с резкими выступами плечей и бедер, она пристраивала скрипочку под подбородком, ожидая сигнала более уверенной партнерши. Бесцветные, белесые волосы спадали девочке на лицо, и она пыталась убрать их назад неловким движением руки, держащей смычок. Волосы не слушались, и по-прежнему выбивающаяся прядь добавляла свою бесцветность и белесость к ее и так скучному, невыразительному лицу.
Наконец они начали играть. Пианино вело, скрипка пыталась поспеть, но зачастую ей это не удавалось, и она запаздывала. Я не знаток в музыке, но даже мне было понятно, что то ли от волнения, то ли от неумения моя девочка играла неправильно, где-то спотыкалась, где-то путалась, часто сбивалась. Впрочем, в зале это никого не тревожило: люди были доброжелательны к любым творческим потугам, к тому же музыка была здесь лишь фоном, рождающим приятную атмосферу для еды и разговора. Я тоже увлекся каким-то обсуждением и перестал замечать и музыку, и двух женщин, ее создающих.
Но обсуждение закончилось, и разговору нашему потребовалась передышка. Товарищи мои откинулись на своих креслах, повернулись и стали смотреть на сцену, скорее чтобы заполнить перерыв перед следующей темой, чем из интереса к двум музыкантшам. Я тоже облокотился на спинку кресла и, не ожидая увидеть ничего интересного, перевел взгляд туда, откуда исходила музыка. Но то, что я увидел, поразило меня и заставило напрячь зрение, чтобы внимательнее вглядеться в лицо моей скрипачки.
Это было другое лицо, да и сама девочка была другая, совсем не та, что я видел десять минут назад. Ее закрытые глаза лишь подрагивали ресницами, иногда она закусывала нижнюю губу, но потом отпускала ее, и тогда можно было различить лихорадочную, потустороннюю улыбку. Когда же в лице накапливалось слишком много муки, она перехватывала ровными зубами верхнюю губу, сдавливая ее до очевидной боли, сознательной, умышленной, мазохистской. В такие моменты лобик девочки то морщился, то распрямлялся, он казался пронзенным мыслью, но мыслью не логической, а скорее предвкушаемой, скорее догадкой. Ее ноздри порывисто раздувались, как будто от беспокойства, от волнения, но она не волновалась, я видел, что она уже не волнуется. Она переступала с ноги на ногу, и от этого требовательного, нетерпеливого движения бедра ее чуть шевелились, выдаваясь поочередно вбок, и, наверное, поэтому, а может быть, от чего-то еще более неуловимого все ее тело вдруг приобрело округлость и освободилось от растерянной угловатости. Иногда скрипачка чуть заметно приседала, пружиня на ногах, одетых в плоские, легкие туфельки, и в этот момент ее лицо еще больше обострялось и на нем выступали мука и счастье.
Я забыл о том, что она играет, я не слышал скрипки, музыка была сейчас лишней, ненужной, она так явно уступала зрительной картине, что я подумал: «Ах, если бы не скрипка в ее худых, длинных, гибких руках, если бы не было скрипки, я бы точно знал, что она, эта маленькая, худенькая, неумелая девочка, сейчас занимается любовью, и только ей отдана, и только ей покорилась».
Приятели мои, до этого сидевшие спинами к сцене и не имевшие возможности разглядывать исполнительниц, как это беззастенчиво делал я, понимающе переглянулись и со мной, и друг с другом. «Хорошая девочка», – произнес один из них.
И тут я понял, понял отчетливо и ясно то, что так долго и так много раз, может быть, лишь чувствовал: самое притягивающее, самое возбуждающее в женщине – это движение ее души…
_____________________________________________
Я ощущаю непривычную, давно позабытую улыбку на своих губах. Когда она появилась, в самом начале или под конец чтения? – я и не заметила, но этот рассказ мне понравился куда как больше, чем тот, до него. Я поднимаю глаза, по океану бежит яркая дорожка, бежит прямо ко мне, так низко нависло над горизонтом солнце. Я хочу разглядеть цвет протянувшейся ко мне нити, но не могу: она слишком яркая, а яркость заглушает цвета.