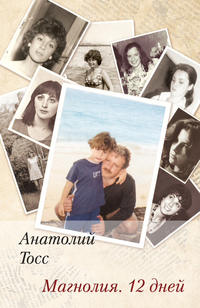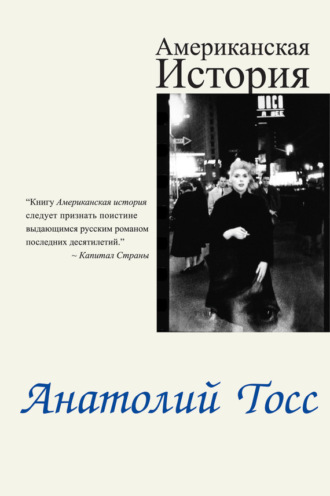
Полная версия
Американская история
Я кончила почти сразу, почти мгновенно, отчего меня немного отпустило, и я смогла удивиться этому, впервые открытому, своему качеству. Но он ничего не заметил, и я продолжала ощущать его в себе, и через несколько мгновений все снова начало кружиться перед глазами и постепенно слилось воедино, и я уже не могла ничего различить и потому закрыла глаза.
Он двигался во мне как-то неожиданно, по-другому, с такими движениями я не была знакома раньше, это не было плавное ритмическое колебание определенной амплитуды, а, скорее наоборот, движения рваного, если вообще существующего, ритма. Он то убыстрялся, то замирал и почти останавливался, и я замирала вместе с ним, но потом вдруг, в самый неожиданный момент, ударял меня внутри так глубоко и с такой неожиданной силой, что, мне казалось, не только крик, но и вся моя плоть вырывается наружу.
Удары эти все нарастали и по силе, и по скорости, и, когда я уже начинала к ним привыкать, когда я уже начинала ловить их безумный ритм и подстраиваться под него, они вдруг так же неожиданно замирали на полудвижении, полу-взмахе. Мои бедра еще чуть дрожали, ожидая продолжения, но его не было, и они расслаблялись, и именно в этот момент, застигнув врасплох, он снова ударял меня одиночным немилосердным движением, и от неожиданности, не успев собраться, я снова рассыпалась в стоне и в неверии выкрикнутого «нет, не надо», но он не понимал все равно.
Потом он снова останавливался, и, сменив и ритм, и угол, и само движение, сделав его вращательным, упирался в стенку, и начинал надавливать на нее, только на это одно место, так что я сжималась от резкости ощущения, но потом он снова менял направление вращения, ища другую, еще нетронутую точку и снова находил, и я снова сжималась, пока все не менялось опять.
Я погрузилась в эту запутанную ритмику блюзовой мелодии и растворилась в ней, пока не почувствовала, как выгнулось в моих руках его тело, и он подался вверх, и я ощутила его разом удесятеренное, дошедшее до дрожания напряжение и горячий, будоражащий всплеск внутри меня, и все многократно усилилось и смешалось, переплелось, и он сжал меня, не щадя моего тела, и все было так сильно, что я только услышала его крик или стон, и догнала его своим, и накрыла его.
Мы лежали без движения, без звука, без дыхания, без сил в темноте комнаты, да и откуда им было сейчас взяться, они все были израсходованы, и им требовалось время, чтобы накопиться вновь. Когда я смогла думать, я поняла, что сейчас в мою любовь вошли и благодарность за то неземное, что он позволил мне только что испытать, и трогательная нежность к нему за то, что ему тоже было хорошо со мной.
Наконец я смогла повернуться на бок и, приподнявшись над распластанным Марком, стала разглядывать его неживое лицо. Видимо, он почувствовал мой взгляд, потому что открыл глаза и, не улыбаясь, очень серьезно сказал:
– Ты обалденная.
И он протянул усталую руку, и обнял меня за шею, и потянул к себе.
– Нет, это ты обалденный, – несогласно прошептала я, пока мои искусанные губы не успели достичь его рта. – Ты так потрясающе кончаешь, – сказала я потом.
Я не видела, но почувствовала, как он улыбнулся.
– Ты тоже.
Я восприняла это как похвалу.
– Ты останешься у меня?
– Мне надо будет рано уйти, – ответила я, понимая, что это положительный ответ.
Это была первая, но не единственная ночь, когда я осталась у Марка. Собственно, я оставалась у него каждый раз, когда мне на следующий день не надо было вставать с рассветом, что случалось не так часто, как мне хотелось бы, но все же раза два в неделю.
Утром мы отправлялись завтракать в соседнее кафе, и это был беспечный и беззаботный завтрак. Мы пили кофе, и ели вкусные с изюмом булочки, и болтали о чем-то под стать завтраку – очень беспечном и беззаботном, и смотрели друг на друга с нежной лаской, и от утренней, ранней, чуть сонливой разнеженности я относилась к Марку особенно трогательно, и мне хотелось дотронуться до него, и снова оказаться в его квартире, и замереть там рядом с ним на целый день до завтрашнего такого же завтрака, но это было невозможно, так как впереди ждали дела.
Впрочем, вечером он, как всегда, встречал меня у работы, и мы снова были вместе, и снова проводили час или два, и, если я не могла поехать к нему, он не настаивал и провожал меня, и я целовала его в губы и не могла оторваться от него и оставить его этой ночью одного, но все же заставляла себя, зная, что все продолжится завтра. И все действительно продолжалось завтра, и мы скользили по дням и неделям, пока они не перетекали в месяц, а потом в другой, и мне было необыкновенно легко, и ничто не вклинивалось в этот счастливый распорядок, ничто не вызывало вопроса, и поэтому ничто не требовало ответа ни от меня, ни от Марка.
Глава четвертая
Я не помню точно, когда Марк все же спросил меня, где и на кого я учусь, я просто не обратила тогда внимания на этот его несущественный вопрос. Помню только, что мы сидели в простеньком кафе уже вполне сытые и единственным, что оставалось на столе, были две неполные чашки кофе, да еще хлебница с парой разломанных пополам булочек.
– В Бостонском университете, – ответила я, – на экономическом.
– Что это значит? Я имею в виду, кем ты станешь? – спросил он.
– Если честно, я сама точно не знаю. Но вроде бы в финансовых компаниях, делать аудит, рассчитывать налоги или быть финансовым советником. В общем, заниматься разной туфтой типа этого.
– И тебе нравится? – спросил он. Я скорчила гримасу недоумения.
– Нравится? Даже не задумывалась над этим, – попробовала уйти от ответа я, но потом добавила по инерции монотонно: – Нормально.
– А зачем же ты тогда пошла туда учиться? – опять спросил Марк.
– Зачем я пошла туда учиться? – лениво повторила я его вопрос, показывая этим, что мне этот разговор не особенно интересен. – А куда еще? Экономисты везде требуются, работы полно, посмотри газету, куча объявлений, зарплата хорошая. Что еще надо – стабильность и вера в завтрашний день. – Я попыталась свести разговор в шутку, мне не нравилась тема, слишком односторонняя, слишком про меня, и я не хотела продолжать.
Марк мягко улыбнулся, он всегда так улыбался, когда не соглашался, и я поняла, что мне не удастся отделаться формальной отговоркой.
– Но если тебе не нравится.
– Я так не сказала, я сказала «нормально». Не так чтобы я жутко тащилась от всех этих дебетов, кредитов и прочих дисперсмантов, но, я думаю, никто не тащится.
Я потихоньку начала раздражаться, разговор был мне не по душе.
– Я думаю, кто-то тащится. Кто-то наверняка тащится, – повторил Марк. Он говорил медленно, как бы взвешивая слова, аккуратно их подбирая. – И ты всегда будешь проигрывать им.
Это было уже что-то новое, никогда раньше Марк не говорил со мной таким тоном – безапелляционным, давящим.
– Послушай, – сказала я, – я ни с кем соревноваться не собираюсь. Очень хорошо, если кто-то станет лучше меня. Будет кому местную экономику поднимать.
– Зачем начинать, заранее зная, что тебя ожидает неудача? – задумчиво и как бы самому себе сказал Марк. – Это как игрок, который выходит на поле, заранее готовясь проиграть матч. Только для тебя поражение в результате выльется в напрасно потраченные годы, постоянное неудовольствие, и потом невозможно будет что-либо изменить и…
– Хорошо, – перебила его я. – Откуда ты знаешь, что меня ждет неудача? Ты что, считаешь, что я соображаю плохо? Так вот, в качестве информации, я одна из лучших на курсе!
– Малыш, ты только не злись, – сказал он миролюбиво, – мы ведь просто обсуждаем. Я уверен, что ты способная.
Более того, ты способнее многих других, которых я знаю. А я знаю много сильных людей.
Я бы подумала, что он шутит, если бы голос его не звучал настолько серьезно.
– Но, видишь ли, когда мы говорим о лучших, в силу входят другие правила. Это как законы Ньютона, которые действительны только на Земле и распространяются на всех, кто здесь находится, но за пределами ее они не действуют. Там, в космосе, властвуют законы Эйнштейна и геометрия Лобачевского, а не Евклида, например.
– Но там нет жизни, как ты говоришь, за пределами Земли, – возразила я.
– Это ты так думаешь, – отмахнулся он от меня. – Так же и среди творческих людей: для них действуют другие законы, – он сделал паузу, подбирая слова, – счастья, гармонии, даже любви – абсолютно другие законы, и конкуренции тоже.
– Ну хорошо, и какие же они, эти законы? – уже скорее саркастически, чем добродушно, спросила я.
Он все так же мягко улыбнулся.
– Все я не знаю, о многих сейчас незачем говорить, но самый простой – тот, о котором мы сейчас спорим. – Он опять остановился, опять подбирая слова. – Человек хорош в том, что любит, а любит то, в чем он хорош.
– Это несложно.
– Конечно, несложно, – не понял он моей иронии или сделал вид, что не понял. – Более того, банально, но парадокс в том, что самые простые и банальные вещи как раз из-за своей простоты и ускользают от нас.
Нет, подумала я, все он понял.
– Но я не об этом. Получается замкнутый круг: чем больше ты любишь то, чем занимаешься, тем лучше это делаешь. А чем лучше делаешь, тем больше ты это любишь. В результате человек поднимается над собой, даже над своим талантом, и конкурировать с ним становится сложно.
Теперь я поняла, что меня раздражал, даже больше, чем сама тема, его тон. Он говорил со мной, как с ребенком – поучительно, даже назидательно, – и говорил бы что-нибудь оригинальное, а то действительно общие места. Я хотела сорваться на резкость, чтобы закончить наконец этот ненужный разговор, я уже приготовила фразу, но в последний момент все же сдержалась и промолчала. Вместо этого я перешла на еще не забытый московский, более развязный тон.
– Ну ты романтик. Тебе бы все о высоком. Какие там любишь не любишь, тоже мне ромашки! Выжить бы, – вдруг вырвалось у меня в сердцах. – Ты бы посмотрел, где и как я живу, пашу на двух работах, чтоб прокормиться, занимаюсь по ночам, сплю четыре часа!
Меня понесло по-настоящему. Все, что накопилось во мне, вся усталость, разочарование, бессмысленное ожидание чего-то, постоянные ограничения и нехватка-все это из-за дурацкого разговора вдруг наслоилось одно на другое и рванулось из меня, и я не в силах была сдержаться.
– Ты знаешь, когда я последний раз к зеркалу подходила? Когда у меня время было накраситься? – Я почувствовала слезу у себя в голосе. – Хорошо еще, что в этой стране и краситься-то не надо, все равно никому дела нет. – Вот уже и на страну покатила, подумала я. – Если бы я родилась здесь, я бы, как ты, думала о высоком, о космосе, о душе, а не о том, как мне за квартиру заплатить и на что зуб, который, сволочь, уже вторую неделю болит, залечить.
Я остановилась, чтобы сдержаться и действительно не расплакаться, очень уж стало жалко себя, особенно из-за этого зуба.
– Ты, Марк, с кем разговор этот затеял? – все же кое-как взяла себя в руки я. – Творчество-шморчество! Ты с друзьями своими йельскими об этом поболтай, а со мной о чем-нибудь более земном, например, где будильник достать, который звонит погромче, чтоб завтра полшестого не проспать.
Я наконец замолчала. Он смотрел на меня все то время, что я говорила, смотрел прямо в глаза, уже не улыбаясь, подперев голову рукой и закрыв ладонью подбородок. Взгляд его, став мягким, светился нежно-голубым теплом и, мне показалось, даже нежностью.
Зачем я все это наговорила? Глупо, подумала я.
– Я тебе завтра позвоню в полшестого, разбужу, – абсолютно серьезно сказал он.
Я улыбнулась, это было мило. Хорошо все же, что я не расплакалась, было бы совсем по-дурацки. Мы замолчали. Я постаралась успокоиться и снять с себя напряжение и досаду спора.
– Я понимаю то, о чем ты говоришь, – сказал наконец Марк. – Я знаю это ощущение. Оно вызывается не только эмиграцией, но и многими другими, вообще любыми поворотными событиями.
Лицо его, все так же лежащее на ладони, склонилось теперь ближе к столу, и взгляд сосредоточился на хлебном мякише, который он катал двумя пальцами.
– Видишь ли, – он говорил как бы самому себе, – любой большой шаг в жизни человека есть отступление, которое зачастую приводит к потере. Не только эмиграция, но и рождение ребенка, смена профессии, что еще? наверное, женитьба – вообще любое значимое движение, которое совершает человек, отбрасывает его назад, каждого по-своему, но все равно отбрасывает, лишает чего-то. Либо привычного стиля жизни, либо интересов, либо системы ценностей, планов, надежд, да чего угодно. В какой-то момент начинает казаться, что потеряны время, силы, что для восстановления, возвращения в исходную позицию потребуется вся длина оставшейся жизни. Но это ошибочное ощущение, и дело даже не в том, кто восстанавливается быстрее, а кто медленнее, а в том, что некоторые выходят из своего отступления в результате более сильными, чем были прежде.
То есть они, кто возвращаются, сразу перескакивают прежние, исходные позиции, переходя как бы на новый виток спирали.
– Как Монголия из феодализма в социализм, – перебила я его еще заученным в школе.
Я опять начала злиться: ну зачем он снова возвращается к этой теме?
– Что? – не понял он.
– Нет, ничего, – мотнула головой я.
– Понимаешь, кого-то отступление отбрасывает назад навсегда, а кого-то – обогащает и поднимает над теми, кто не знал поражения.
– А поражение-то здесь при чем? Поражения-то вроде не было, – опять съехидничала я.
– Ну ладно, – наконец-то он понял, что разговаривать со мной бесполезно, – давай закончим пока.
– Да, давай закончим. Только один вопрос, – как бы вдруг спохватилась я.
– Конечно, – согласился наивный Марк.
– Ну-ка, признавайся, сколько детей ты успел народить, и все небось от многочисленных законных жен.
Он пожал плечами, не понимая.
– Откуда же ты так качественно про отступления набрался?
Я вдруг поняла, что скорее злюсь, чем шучу. Он тоже понял это.
– Хорошо, давай закончим, – снова согласился он и добавил: – Ты пойдешь сегодня ко мне?
– Нет, – ответила я, – я лучше сегодня к себе, в свое отступление, а то чего-то не обогащалась давно. Пойдем, а?
Мне действительно хотелось уйти побыстрее, а то я чувствовала, что мы можем поругаться, вернее, я могу. Мы встали из-за стола и направились к выходу. Уже на улице, перед моим вечно поникшим домом, он притянул меня к себе, обнял и сказал мягко:
– Я знаю, что был нетактичен сегодня. Понятно, что по больному, но я должен был все это сказать. Ты делаешь ошибку, я уверен. Обещай мне, что подумаешь, о чем мы говорили, ладно?
– Обязательно, – скороговоркой выдавила я, повернулась и стала подниматься по ступенькам к подъезду. Знает, что по больному, а все равно продолжает, подумала я, спиной чувствуя, что он смотрит, как я открываю дверь. Я открыла ее и вошла внутрь, так и не обернувшись.
Глава пятая
Смешно было то, что Марк действительно позвонил мне следующим утром ровно в полшестого, и голос у него был заспанный и оттого особенно теплый и милый.
– Давай вставай, пора, полшестого, – чуть-чуть заплетающимся языком пробурчал он.
– О, – я потянулась в постели, – я могла еще десять минут поспать.
– Ты же сказала: в полшестого, – все так же невнятно сказал Марк.
– Ладно, встаю, – согласилась я трезвея. – Счастливчик, ты-то небось еще спать будешь.
– Конечно, буду. В такую рань встают либо сумасшедшие, либо одержимые.
– Я одержимая, – выбрала я из двух.
– Кстати, – вдруг его голос зазвучал совершенно нормально, без намека на сонную расслабленность, – освободи себе субботу. Мы приглашены на вечер.
– На вечер? – удивилась я. До этого мы ни разу никуда не ходили, встречаясь, только чтобы увидеть друг друга. – Куда?
Мне стало любопытно.
– Какая тебе разница? Приглашены. Давай вставай, а то опоздаешь. Целую.
– Целую, – машинально ответила я и повесила трубку.
Как ни странно, но почему-то тот дурацкий разговор в кафе запал мне в душу. Возможно, потому, что это был первый случай, когда Марк был напорист, почти агрессивен со мной и не побоялся сказать неприятное. «А что, если, – вдруг неожиданно предположила я, – что, если он прав?»
Не то чтобы все эти науки, которые я изучала, очень раздражали меня, скорее они оставляли меня равнодушной. Если честно, я никогда не задумывалась, что всей этой занудностью мне придется заниматься всю оставшуюся жизнь. Не потому, что мне эта мысль была непонятна, чего же может быть проще, а просто я вообще никогда не думала в терминах «всей жизни». Ну учусь, ну закончу когда-нибудь, через несколько лет, ну, наверное, пойду работать, ну, начну зарабатывать – и все, и на этом фантазия и мечта останавливались, потому что дальше и не стремились. Даже день окончания университета маячил в таком расплывчатом отдалении, что думать о нем, казалось, все равно что думать о следующей жизни, в которой я буду, может быть, кротом, хотя все же лучше белкой, хотя бы хвост пушистый.
Но после разговора с Марком я вдруг представила, что мне на самом деле придется до бесконечности заниматься этой смертельно одинаковой бухгалтерией, хоть назови ее экономикой, и сразу такая тошнотворная скука охватила меня, что я бы предпочла действительно стать кротом, или белкой, или кем мне там полагается, прямо сегодня. Не то чтобы я думала обо всех этих теориях, о которых говорил Марк, о всяком там творческом парении и прочих красивостях, а просто горизонт моего жизненного планирования отодвинулся, и я представила себя в будущем, там, где никогда почему-то до этого себя не представляла.
«Но, с другой стороны, – подумала я, – а что не занудно, что вызывает у меня одухотворенный восторг?»
И честно призналась: ничто, во всяком случае, ничто из того, что я знаю.
В школе я всегда училась хорошо, все давалось мне более или менее одинаково легко, я ничему не отдавала особого предпочтения, может быть, только к десятому классу – косметике.
В институт в Москве я поступила в тот, в котором, чего греха таить, имелись прочные знакомства. Романтическая идея призвания, так яростно проповедуемая в школе, как и все другие проповедуемые в школе идеи, в меня не запала. Сама идея призвания, особенно для «будущей женщины», казалась тогда, в той стране абсурдной.
В процессе своего незаконченного высшего образования я иногда с интересом наблюдала за незначительной группкой очень увлеченных не то радистов, не то программистов, вечно озабоченно обсуждающих всякие транзисторы и прочие острые и колкие железки, но наблюдала за ними скорее с анатомическим, чем с практическим интересом. Они, надо сказать, хоть и вызывали у всех нормальных людей, и у меня в том числе, уважение своей замкнутой увлеченностью, но я все же подозревала их… хотя даже не понятно, в чем – может быть, в отсутствии гармоничной полноценности.
Так что к субботе, к моменту, когда Марк заехал за мной, моя новая жизненная позиция выглядела приблизительно так: хорошо, я не хочу заниматься этой уже осточертевшей мне бухгалтерской гнусностью. Но чего же тогда я хочу?
По домофону голос Марка звучал привычно, как будто мы с ним почти не поссорились несколько дней назад. Когда он появился в дверях и я взглянула на него, мой взгляд беспомощно заметался, пытаясь то разом охватить его всего, то выделить отдельную деталь, но, как завороженный, не в силах был вырваться из поля притяжения, создаваемого его фигурой. Лицо мое, наверное, выражало комическое изумление и растерянность, что добавляло всему моему виду неподдельную искренность.
– Марк, – протянула я, – это ты?
Марк смущенно улыбнулся и развел руками. Он был в черном фраке, в блестящей белизной рубашке с жабо и, что было умилительнее всего, в бабочке.
– Неужто это так серьезно? – с неподдельным испугом спросила я.
Я никогда не видела его таким прежде. Когда мы встречались, он всегда был в джинсах и в рубашке со свободным воротом или в свитере – смотря по погоде. Более того, вид у него был не то что небрежный, а скорее вид человека, не обращающего внимания на свою одежду и к тому же подчеркивающего это. Мне и в голову не приходило представить его даже в костюме с галстуком, не то что во фраке. В моем воображении он ассоциировался только с этим неформальным, чуть артистическим образом, который, в общем-то, был мне привычен и нравился. Но сейчас он выглядел совсем иначе: картинка из журнала, образ из телевизионной передачи про роскошную жизнь – изящный, броский, светский и потому так очевидно не соответствующий убогой обстановке моей одинокой квартирки.
– Марк, – сказала я, потихоньку приходя в себя, – для нас нет счастья в этой жизни.
– Почему? – спросил он, принимая мой тон.
– Мы с тобой самая что ни на есть неравная пара. У меня нет шансов дотянуться до тебя.
– Мы купим тебе фрак и сравняемся, – предложил он.
Это меня успокоило. Я подошла к нему, подняла руки и, чтобы они кольцом сошлись на его шее, потянулась вверх, даже приподнялась на цыпочки.
– Нет-нет, не наклоняйся, – предупредила я его движение мне навстречу, – я сама, – и почти вплотную приблизилась к его лицу. – Марк, – несчастным голосом прошептала я, – а что, если они не продают фраки для женщин? Мы тогда пропали.
Мои губы лишь чуть коснулись его кожи, а руки на шее разомкнулись, и одна, передвинувшись чуть повыше и погрузившись в теплую густоту его волос, позволила второй соскользнуть на его грудь и продолжить скольжение вниз, ощущая каждую мышечную неровность его тела и отдавая свою, заряженную несколькими днями разлуки, энергию и теплоту.
– Во сколько нам там надо быть? – заговорщицки тихо спросила я.
– Ты чудесная, – сказал он. – Я так соскучился. – Он все же наклонился, и его губы нежно и влажно пробежали по моей шее. – Но нам надо ехать, мы не можем опаздывать.
– Ну на секунду, – прошептала я.
Он покачал головой.
– Нам надо ехать, – повторил он.
Я опустила руки и отступила на шаг.
– Вот. Вот он, пример прагматичной Америки. Вот о чем меня предупреждали бдительные товарищи, – громко сказала я и, резко сменив тему, развела руками и сказала: – Но мне действительно нечего надеть. Я не знала, что этот вечер такой важный, ты мне не сказал. Впрочем, если бы я и знала, мне все равно нечего надеть.
Я не кокетничала, с одеждой действительно приключилась обычная беда. Я ходила от гардероба в ванную и назад к гардеробу раз десять, вытаскивая разные, заведомо обреченные юбки, кофточки и рубашки, потом снова шла в ванную примерять их, ища хоть какую-нибудь разумную комбинацию.
– Ну все, – сказала я обессиленно и в отчаянии рухнула на кресло, – я никуда не поеду.
– Ну что такое? – как бы успокаивая ребенка, проговорил Марк.
Все это время он терпеливо и не без интереса рассматривал жалкие результаты тщетных моих изощрений.
– Ты же видишь, мне нечего надеть.
– Тебе сколько лет? – вдруг неожиданно спросил Марк.
«Кстати, – подумала я, – а ведь он действительно не знает моего возраста. Ведь он никогда не спрашивал, а я не говорила».
– Скоро двадцать два, – настороженно созналась я. – Это много или мало?
Он улыбнулся, по-моему, от удовольствия.
– Это мало, – заключил Марк. – Это настолько мало, что ты можешь вообще ничего не надевать, – попробовал пошутить он.
– Так ведь холодно будет, – заканючила я.
– Тогда надень вот ту черную юбочку, которую ты примеряла, эту блузку с декольте и белый пиджак. Самой юной после тебя женщине будет лет на двадцать больше. Ты в любом случае вне конкуренции.
– Ты чего? Юбка короткая слишком.
– Нормально, – одобрил Марк. – У тебя красивые ноги. Поверь мне, все только на тебя и будут смотреть. У тебя туфли на каблуках есть? – спросил он.
– Недооцениваешь, значит, – надменно произнесла я и, подумав про единственные туфли, которые купила еще перед отъездом из Москвы, добавила с вызовом: – Не иметь туфель! До такого я еще не опустилась! Но всю ответственность за мои голые коленки ты берешь на себя, – погрозила я ему пальцем, собирая указанные вещи и направляясь в ванную.
– Беру, беру, – с готовностью крикнул он мне из комнаты.
– А краситься можно? – крикнула я в ответ.
– Обязательно, – откликнулся он. – Только быстро, а то мы действительно опоздаем.
– Ну, вот где я все компенсирую, – сказала я себе, подходя к зеркалу.
Когда я вышла из ванной, одетая и накрашенная, я встретила теперь уже его изумленный и оттого еще более лучистый взгляд, и он сказал почти серьезно:
– Может, действительно никуда не поедем?
– Нет, – ответила я решительно, – у тебя был шанс, ты его упустил. Теперь я хочу на бал.
Мы спустились вниз, и Марк открыл ключом низенькую дверцу «Порше».
– Это твоя машина? – почти выкрикнула я, делая ударение на каждом слове.