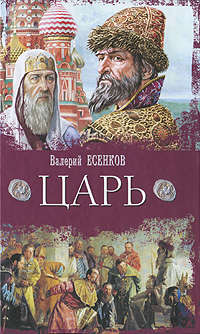Полная версия
Дуэль четырех. Грибоедов
– Да ты рассуди, мы все трое относились по-дружески. Васька влюблён был в Истомину…
Жандр неожиданно перебил, точно это обстоятельство имело значение и что-то могло изменить:
– Говорят, она ему досталась невинной?
Э, чёрт возьми, пропади они пропадом всё, и он вопросительно поглядел на Андрея, сидевшего с наморщенным лбом, силясь логику угадать, что ж из того, что невинна:
– Он мне про это сам говорил, Васька, болтун, так как это знать. Понимаешь, он её даже на сцене хладнокровно видеть не мог, сил не имел, столько грациозности, сладострастия столько в каждом движении.
Жандр с пониманием протянул:
– Вот за них-то, за движенья-то эти, должно быть, и ревновал, так танцовщица, актёрка она, или не знал?
Он вдруг; испугался и дёрнулся весь:
– Может быть, за движения, только я в неё не был влюблён, не увивался, не волочился за ней, обходился с ней по-приятельски, запросто, как с короткой знакомой, ко мне не было причин ревновать, он это знал!
Тоже зная об этом, Жандр только заметил:
– Однако ж все говорят, что Завадовский не был к ней равнодушен.
Нет, и эта оказия не спасала его, глаза продолжали глядеть как глядели, и он с горечью им возразил:
– Завадовский виды имел ещё до него, однако тотчас ему уступил, джентльмен, холодная кровь, Британию на себя напустил, тоже славный актёр.
Жандр облегчённо вздохнул и вновь улыбнулся:
– Вот видишь сам, Шереметев с ней жил по-супружески и по-супружески ссорился часто. А ты заладил, как попугай: вина, виноват, погляди на себя.
По-супружески, по-супружески, да никакое супружество не успокаивало его, и он воскликнул с досадой:
– Об Ваське что говорить, Васька слишком влюблён, разгорячился, мальчишка ещё, а я-то из чего принял всерьёз брыкливые слова Якубовича? Мне-то что за резон?
Откидываясь назад, Жандр заметил ещё раз, настойчиво, трезво, с совершенно спокойным лицом, сам ли утешился, его ли этак утешить хотел:
– И Завадовский принял, не ты же один.
Да не надобно ему никаких утешений, не в утешениях дело, что в них, слова, пустота, и это спокойствие доброго друга только пуще распаляло его:
– Они к Завадовскому приехали пьяные, Шереметев с Якубовичем во главе, я потом об этом узнал, там между ними ссора была, кто над собой властен в ссоре и во хмелю? Я ж был трезв и спокоен, сидел и читал, Мольера читал, ты заметь, с какой стати было мне задирать Якубовича? С какой стати, главное, было Ваську не удержать? И вот Васька убит, и выходит, что это я кругом виноват, а не он.
Жандр затряс головой:
– Да полно тебе, Александр, это всё Якубович беспутный его натравил, на Якубовиче, стало быть, и вина, в этом логика есть, а ещё есть логика в том, что твой долг был за эти проделки Якубовича наказать, благородное дело, поверь, или ты логике враг?
Оно славно всегда – верного друга иметь, на тебе не видит греха, хоть пляши на гробах, хоть из пистолета пали, на том и весь сказ, так что готов рядом с другом порядочного человека заслышать в себе, как бы не эти глаза, привязались, проклятые, глядят и глядят, и он, пристально поглядев на него, огрызнулся:
– Ну, это ты брось, говорю!
Жандр вдруг вскочил, не желая, должно быть, далее слушать его, и суетливо изрёк:
– Постой, ты устал и продрог, тебе чаю с ромом как раз, я прикажу.
И выскочил вон, оставив его одного перед печкой, в которой лениво догорали дрова.
В другой комнате раздались приглушённые голоса. Кто-то, кажется Ион, что-то негромко сказал. Затем Жандр прокричал намеренно громко:
– Чаю подай!
И на него продолжали глядеть с глубокой болью расплывчато-голубые глаза и в полном молчании упрекали его, и он всё этим пристально вопрошающим глазам говорил, говорил, что он виноват, сомнения нет, что искупит вину, в этом тоже сомнения нет, понимая прекрасно, что такого рода вину уже не искупишь ничем, и уснул наконец прямо в кресле, сморённый усталостью и теплом, далеко вперёд вытянув разутые ноги, слыша сквозь внезапно навалившийся сон, как Жандр негромко-настойчиво звал:
– Александр, Александр…
Он ещё понимал, что намеревался сказать ему Жандр, и мысленно даже пошевелился, чтобы выпить чаю и поднять сапоги, сапоги-то стало особенно жаль, однако же тёмное забытье тут же оглушило его, затянув в свою мягкую бездну.
Утром, с немалым облегчением открывши глаза, во всём теле ощутивши бодрую свежесть, он встретил прямо в упор вопросительно-жалобный взгляд Шереметева, о чём-то важном умолявший его.
И он тотчас поднялся со стула, стоявшего близко, но несколько сбоку, у ног, и неуклюже встал перед ним:
– Самое время вставать. Просил Василий Васильевич очень приехать тебя, Александр.
Он спросонья ещё не понимал ничего и сердито спросил:
– Какой? Какого чёрта ему?
Склонившись низко над ним, точно он был в жару и в бреду, бледный Ион срывавшимся голосом пояснил:
– Шереметев, какой же ещё, не знаю зачем, не сказал, только приехать очень просил.
Он тотчас сел на диване, тотчас вспомнивши страшно вздутый живот, чёрную дырку в боку и ком намокших волос, прилипших к затылку, оскаленный рот. Затёкшие ноги стало остро покалывать и щипать, должно быть, он спал неудобно. Он разглядел, что кто-то раздел его с вечера и накрыл тёплым пледом, который он любил себе набрасывать на колени, когда бывал у Жандра в гостях. Утро сияло. Неужели он так долго проспал, несмотря ни на что? Как могло это быть? А Ион, должно быть, не спал, экий бледный какой.
Ему стало нехорошо оттого, что уснул, но он не успел погрузиться в себя. Откуда-то явившийся Сашка суетливо поставил ему на колени лакированный чёрный поднос с чашкой горячего кофе и с кренделем, как он любил и дома всякий день пил по утрам, словно ничего не случилось, Сашка улыбался всем ртом.
Он отвернулся и пробурчал:
– Это не надо, прими, Александр.
Ощутив, что подноса на коленях тотчас не стало, подивившись небывалой покорности своевольного Сашки, он вскочил и поспешно стал одеваться, страшась опоздать.
Всё было вычищено, выглажено и у него под рукой, верно, Сашка старался вовсю, позабыв свою неистребимую лень.
А глаза всё глядели в упор, без упрёка, обречённо, беспомощно, понуждая спешить и спешить.
Ион неуклюже топтался у него за спиной, говоря:
– Сказали, что худо ему.
Он сморщился, вспомнив, что он в этом непростительном доле кругом виноват, и грубо отрезал:
– Как не худо, с пулей в боку.
Ион, не возражая, с неловкой мягкостью попросил:
– Позавтракали бы сперва, Александр, самое время поесть, вчера не обедали вовсе, сутки прошли.
Он испугался, резко поворачиваясь к нему:
– Какой, к чёрту, завтрак? Звал же, так надо спешить!
Он вовсе не понимал, за какой надобностью должен он ехать, и даже подумал, как-то отрывочно, вскользь, точно тайком от себя, под каким бы предлогом не ездить, да это напоминанье обеда, а в самом деле, как угадывалось, о том, что время у него ещё есть, оттого что тот ещё жив, подстегнуло его, и он окончательно заспешил, и внезапно пришедшая мысль, что успеет перед тем оправдаться во всём, подгоняла его, отчего копошился он дольше обыкновенного, то не попадая в рукав, то позабыв про жилет.
Ион, готовый давно, дожидался предупредительно, стоя у двери с вытянутым несчастным лицом: плохи, стало быть, были у бедного Васьки дела.
Наконец Сашка подал трость и цилиндр и набросил шинель.
Наёмная карета ждала у крыльца.
Они молча сели с разных сторон. У него промелькнула благодарная мысль, что верный Ион заранее позаботился обо всём, ничего не забыл, а Ион, склонившись, заглядывая в лицо, вполголоса говорил:
– Дело теперь заведётся, в полиции или где, так все мы должны говорить…
Согласно с указом, которым строго-настрого воспрещалась дуэль, дело должно было завестись непременно, однако к этому делу он был равнодушен, точно оно не касалось его, только несчастного Иона, которого затащил ради шутки, экий болван, стало вдруг страшно жаль, и он грубовато, отрывисто оборвал:
– Тебе, Богдан Иваныч, надобно от всего отпереться, и точка.
Ион переспросил, удивлённо моргнув:
– Это как?
Александр уже видел, что для Иона в отрицании с порога всего, что предъявят ему в заведшемся деле, единственно правильный выход, и ответил, сердито ворча:
– А вот так: не был нигде, не знал ни об чём и во сне не видал. Не беспокойся, у нас немцу тотчас поверят, что ни солги, замечательная к немцам любовь у властей, да и власть-то из немцев, порядок такой.
Откинувши несколько голову, по-прежнему разглядывая его, точно давно не видал, покачиваясь смешно, когда карета подпрыгивала на кочках, китайский болван, две капли воды, Ион изумлённо тянул, не имея в запасе этого неотразимого русского средства – беззастенчиво лгать:
– Однако, позвольте, я не не был там, Александр, я, как раз напротив, там был…
Возражение принадлежало к разряду глупейших, самому распространённому между людьми, как он примечал, немцы на этом стоят, как гранит, но всё-таки и глупейшее возражение надо обдумать, хотя чего же обдумывать, очевидно, как Божий день, понятно должно быть наипоследнему дураку, не был, и всё тут, спрос не велик, а между тем они приближались, через минуту иное станет важней, к чему он вовсе не был готов, всё заспал, как же он мог, он-то там точно был, и, сморщившись, словно бы Ион наступил ему на мозоль, нагнув голову, он попросил:
– Потом, Богдан Иваныч, об этом потом, после поговорим, я растолкую тебе, где ты был, глубокая мысль.
Ему сделалось сиротливо и зябко. Он во всём ещё очевидней был виноват, и вина непоправима была, безысходна и, как плита на груди, тяготила его, можно ли посвящать немца в тонкости русского умения жить.
Александр натягивал перчатку на правую руку, тотчас снимал и беспрестанно совался к окну.
После вчерашнего мороза и снега вдруг потеплело, моросила какая-то мелкая дрянь, за окном висел невзрачный редкий туман. Колеса кареты стучали по обнажённым скользким камням.
Он удивился, что не приметил ни дождя, ни тумана, когда выходил.
Право, лучше было бы всё ещё спать, порывисто, тяжело, но без дождя, тумана и снов.
В особенности сны никому не нужны.
Тут карета остановилась, но остановки он не заметил, продолжая сидеть, свесивши голову, опираясь двумя руками на трость, размышляя, отчего это сны никому не нужны.
Ион осторожно тронул его за плечо, указывая движением головы, что пора выходить.
Александр с изумлением поглядел на него: чего тот хотел от него, сообразил, что сны всё же нужны, из кареты выбрался почти машинально, вошёл и не тотчас сбросил шинель, точно раздумал входить.
У него чуть не силой взяли трость и цилиндр и без промедления провели к Шереметеву, видимо давно ожидая его.
Серый, неузнаваемый Васька был весь в жару. Лихорадочно блестели бесцветные жидкие большие глаза и беспокойно, мучительно ждали кого-то. Почерневшие губы запеклись и шептали чуть внятно и с хрипом:
– Грибоедов… жду тебя… хорошо… прости меня… друг… я верю, верю… уж ты, брат, прости…
Александр сел перед ним, опустил на колени бессильные руки и наклонился вперёд, стараясь хоть что-нибудь разобрать из того, что бедный Васька шепчет явно в полубреду.
В тот же миг Шереметев вдруг увидел его, ещё больше расширил больные глаза и отчётливо прошептал:
– Грибоедов!
Он невольно слишком громко сказал:
– Здравствуй, как ты?
Шереметев нахмурился, сморщил лоб совсем так, как всегда, когда недоволен бывал, что мешали ему, и зашептал торопливо, прорываясь, поверхностно, часто дыша:
– Ты был прав… Во всём, Грибоедов… поразительно прав… Я тебя только жду, не хотел помереть без тебя. Ты же прав… теперь никогда… ни-ко-гда…
Он машинально кивнул, решительно не понимая его:
– Да, ты тоже прав, помолчи.
И вдруг осознал, как нелепо, несправедливо, возмутительно то, что именно перед смертью втолковывает ему Шереметев, перед смертью, уже ничего не вернуть, с этим, с этим так и уйдёт, и, почти к самому уху склонясь, глядя тревожно, жив ли ещё, с тяжкой страстью заговорил:
– Это я во всём виноват, слышишь, я виноват, ты прости меня, брат, загубил я тебя, ты прости, я прошу, я тебя очень прошу, ты прости!
Чёрные губы Шереметева дрогнули, точно пытались сложиться в улыбку.
– Это всё я, сердца на меня не держи… Нельзя так глупо любить, а ты говорил, сколько раз говорил… Прошу тебя, скажи нынче ей… пусть отпустит меня… мучил её… это скажи… пистолет…
Горячее короткое прерывистое дыхание было у него на бледной щеке, однако он ещё ниже склонился над ним и силился хотя бы взглядом Ваське внушить то, о чём говорил почти мертвецу:
– Всё скажу, но если бы я…
Шереметев, вдруг перебив, едва прошептал, весь опускаясь вниз на высоких подушках:
– Перестань… простишь ли меня?
Он слабо вскрикнул в самое ухо:
– А ты?
Шереметев выдохнул, безвольно набок клонясь головой:
– За этим и ждал… спасибо тебе…
Он не разобрал впопыхах, за что благодарил Шереметев его, когда должен был проклинать, и с пронзительной жадностью следил за губами, чёрными, жаркими, что скажут они, чем ответят ему на учёный вопрос о прощении, но губы больше не шевелились, рот был раскрыт широко, втягивая воздух со свистом.
Александр откачнулся, соображая, что должен идти, не в силах подняться и навсегда оставить его.
Шереметев заметался в бреду, несколько раз повторив его имя, точно всё ещё ждал.
Он прислушивался к этому невнятному бреду и обречённо сидел перед ним. Он не верил, но знал, что совсем близок конец и что ему не забыть, не забыть никогда, и тогда… и тогда…
Тут он вздрогнул и поднял глаза.
Оказалось, он был не один.
Пожилой доктор, весь в чёрном, не тот, не вчерашний, который вынимал красную пулю после дуэли, незнакомый, спокойный, неподвижно сидел в стороне и молчал, не глядя ни на кого.
Александр взглянул вопросительно, и тогда доктор, добродушный толстяк, видимо немец, с усталым лицом, тотчас уловив на себе его вопрошающий взгляд, со своим всё-таки свежим румянцем на круглых щеках, неторопливо кивнул и чуть слышно произнёс по-латыни, отчего-то уверенный в том, что посетитель знает латынь:
– Час или два.
Он изменился в лице и готов был бежать, но заставил себя для чего-то ещё посидеть.
К нему наконец подошли, тоже громким шёпотом стали за что-то благодарить.
Он откланялся и тотчас уехал.
Жизнь оказывалась серьёзная, страшная вещь. Этой вещью не полагалось шутить, как он беспечно и беспутно шутил всё последнее время, вчера и до вчерашнего дня.
Он боялся заплакать навзрыд и сквозь оконце наёмной кареты, нарочно проделанное в передней стене, упорно глядел извозчику в спину.
На этой чужой незнакомой спине был измокший рыжий тулуп. Потемневшая кожа повытерлась слегка на лопатках и на этих местах была очень гладкой на вид и намного темнее. Большой барашковый воротник был опущен и лежал на плечах. На воротнике ершились намокшие чёрные завитки.
Ион, прижавшийся в угол, как будто ему говорил, а может быть, рассуждал сам с собой:
– Говорят, Якубович намерен стреляться… Каверин намерен Якубовича убедить…
Ему сделалось омерзительно, скверно, как только до него дотащился смысл этих слов.
Он сконфуженно возразил:
– Дело чести, для чего убеждать?
Ион что-то долго и пугливо стал изъяснять, однако он его больше не слушал.
Жизнь так огромна, что не имела цены, ни за какие деньги именно жизнь не купить. Оттуда не возвращался никто, это ещё принц датский так остроумно приметил, и Васька не воротится, шалишь, а здесь ничего хорошего быть не могло. И вот не укладывалось у него в голове, как же он себе позволил с жизнью, своей и чужой, шутить и шутить?
Спина сквозь оконце казалась широкой, прямой и спокойной: верно, отлично знала эта спина, в какую сторону гнать лошадей.
Разве он мог, разве он право имел вполне жизнью признать всю свою прежнюю суматошную егозливую дурацкую жизнь?
Наконец воротившись домой, он себе места не находил, всё думал о чём-то, не всегда умея сказать, о чём размышлял, прилёг на диван, через минуту вскочил, стал ходить взад и вперёд, размахивая сильно руками, наконец присел бесцельно к столу и поник.
Ион, скромно сидя на стуле, поближе к дверям, точно на минутку зашёл, горестно вслух рассуждал о судьбе вообще и о печальной судьбе Шереметева, кавалергарда, штаб-ротмистра, графа, всё время обращаясь прямо к нему, словно затем, чтобы он только как можно дольше слушал его и не смел погружаться в себя.
Слушал он плохо, отвечал кое-как, может быть, невпопад, отчего-то спросил, разве Шереметев был граф, позабыл. Он чувствовал болезненно, остро, что упустил свою жизнь и что не судьбу за своё упущение должен винить.
Он её сам пропустил между пальцами, единственно сам, вот что в этом гадком деле сквернее всего, оттого пропустил, что дурак, если б судьба, так это б ещё ничего.
А всё отчего?
А всё, сукин сын, оттого, думал он, что многие годы, ещё со студенческих лет, когда мальчиком был, он наладился жить с убеждением, разлитым во всём его существе, что он готовит и превосходно приготовил себя на серьёзное, важное, даже, возможно, на чрезвычайное и великое дело, что в одной этой готовности и заключается всё благо жизни и что, в сущности, не имеет никакого значения именно то, когда приступишь к исполнению чрезвычайного и великого дела, если душа переполнена твёрдою готовностью, до краёв переполнена счастливой верой в себя, тут беспокоиться нечего, случай явится сам собой, ничего промедление, всего в несколько месяцев, в год или в два, всё отлично, метаться-то из чего, из какой такой надобности высуня-то язык чрезвычайное и великое дело волком голодным искать?
И вот одна глупая пуля в живот – он оглянулся: позади увиделось одно позорное промедление, и ни единого дня уже не воротишь назад.
А если бы выстрел был сделан в него? Если бы теперь он метался, как Шереметев, с дыркой в боку, с воспалённым от последнего жара лицом?
Что бы осталось в память об нём? Какое чрезвычайное и великое дело?
Звук один его имени: Александр Грибоедов.
И более в памяти современников ровным счётом не отпечатлелось бы ничего.
Даже не тень на стене.
Нет, он не хотел бы так жить, не хотел бы так умереть, чтобы ни звука, ни тени, однако так жил и мог бы так умереть, что самое имя его покрылось бы мраком забвения.
Сколько в памяти поколений отпечатлелось великих имён? Прозвучи трубный глас – и поднялись бы усопшие исполины один за другим, когорта бессмертных: Святослав, Ярослав, Мономах, Иоанн, Пётр Великий, Екатерина, тоже, нет спора, Великая.
Преобразователи, вершители судеб, с познаньем всего, от начала века по днесь, как будто участники во всех делах мира не только при одной своей жизни, но и после дальней, в прахе столетий, славной смерти своей.
Великие мира – великий пример.
Кажется, давно изучил об них всё, помнил всякое долетевшее слово и всякое воплощённое дело, однако на пользу великий пример не пошёл и той высшей мерой не измерить себя, унизительно мал, совсем не видать.
Начать заново жизнь?
Каким чудом, однако? С чего? И каких теперь надобно сил, богатырских, безмерных?
Поздно, пожалуй, сначала начать уже поздно ему, да сначала жизнь начинают только в романах, в скучных, в дурных.
Ещё слава Богу, что хотя бы остановился так вдруг посредине безумия и сумел разгадать, что кругом виноват.
Если б не эти ждущие голубые глаза, не догадаться бы самому никогда, несмотря на весь ум.
Что ум? Человеку, должно быть, необходимо, чтобы время от времени большое несчастье, свалившись, как камень, напоминало ему о себе же самом, и он бы взглядывал вдруг на себя охлаждённым, трезвым, прямым, критическим оком.
Необходимо взглянуть!
Ион тем временем рассуждал с вопрошающим выражением на длинном лице:
– Как странно, что отец в несчастье таком остаётся спокоен. Я бы, кажется, умер сам, лишь бы не видеть своими глазами, как умирает мой сын. Вы же знаете, Александр, как люблю я детей, и потому своих детей иметь мне никогда не решиться. Я, может быть, по этой причине и не женюсь никогда. А вы, Александр? Представьте: лелеять, любить – и вдруг в один миг потерять навсегда!
Собравшись было жениться, внезапно отвергнутый, оскорблённый, откровенно предпочтённый другому, как мало всё это глупо проведённое время думал он о себе, то есть мало думал о жизни своей, о смысле, о цели её? Кому-то как будто бы мстил, сбитый капризной женщиной с ног, как и Васька, – шут, скоморох, он жил, как жилось, со дня на день и день ото дня. После этого, кто ж он такой? Ему бы вот это для начала узнать, сосредоточиться бы, позабыть обо всём постороннем, о той тайной обиде прежде всего, понять и простить, простить, разумеется, прежде всего, Васька и тот угадал, и, понявши, простивши, прозреть.
Он расслышал, что Ион молчит, и сказал, вдруг решив, что наставник, как прежде, с воловьим терпением ждёт, чтобы взрослый дитятя ответил на какой-то важный запрос:
– Лелеять, любить? Однако первыми чаще всего уходят из жизни отцы.
Ион покачал головой, точно ответ был именно тот, какой ожидался, и печально вздохнул:
– Как знать! Судьба безжалостна к нам. Судьба не разбирает отцов и детей, знай себе равнодушно машет железной косой.
Стол был огромный и очень удобно стоял у окна. Свет падал широко и свободно на крышку, пиши да пиши. Когда нанимал он эту квартиру, стол понравился ему больше всего. Он сбирался усидчиво много работать за ним. Чрезвычайные, великие замыслы, казалось, тяготили его. Таким замыслам, дело известное, надобен свет и простор.
– Не хватает только свечей.
Ион без промедления согласился:
– Вы правы, стало рано темнеть, зима настаёт. Александр замешкался что-то, приказать, чтоб подал?
Он удивился, приметив, что сумерки давно наползли и не видать почти ничего, и тревожно забормотал:
– Богдан Иваныч, будь добр, прикажи.
Ион тотчас кивнул:
– С удовольствием прикажу, Александр.
В голове вдруг мелькнуло, как обыкновенно мелькает во сне, что добрый Ион отдавать приказаний не выучился, Что надо бы было остановить и Сашку обругать самому, экий упрямец, лентяй, сукин сын, однако Ион вскочил, длинно зашагал по ковру и скрылся за дверью, точно растаял, заставив его усумниться: да был ли немец только что здесь и не разглагольствовал ли он сам с собой чуть не весь день? О чём, бишь? Ах да, о коварной судьбе да об детях.
На крышке стола были разбросаны бумаги и книги. Встревоженный, несколько раз нарочно тряхнув головой, надеясь резким движением наважденье прогнать, он принялся машинально проглядывать их, поднося совсем близко к глазам. Бумаги и книги накапливались давно. Он не сомневался, живя как попало, что бумаги и книги все разом вот-вот непременно понадобятся на что-то ему, и перекладывал то на одну сторону, то на другую, а бумаги и книги понемногу пылились, желтели, не изведав постоянного большого труда, молчаливые трупы, жертвы мечтаний, кто бы дал жизнь?
Сперва взявшись за книги, проглядывая названия, скорее угадывая, чем прочитав в темноте, открывая на мгновение в разных местах, он и представить не мог, для чего так долго собирал и хранил этот хлам, покрикивая на ленивого Сашку, чтобы не хозяйничал тут и не хватал, упаси Бог, ничего на растопку. К тому же и читать сейчас было нельзя. Зимний день стремительно угасал, точно прятал свет от него.
Он откинул голову на спинку высокого кресла и прикрыл утомлённо глаза.
Воспалённые веки чуть горели и слабо чесались.
Хорошо бы было в баню сходить.
Толкнув дверь ногой, Ион внёс канделябры. Сквозь прикрытые веки Александр ощутил яркий свет, но глаз не открыл и не стал шевелиться, прислушиваясь, как Ион неуклюже возился, ставил свечи на стол, передвигал, потом что-то взял со стола и удивлённо, протяжно спросил:
– Вы читаете «Мизантропа» по-русски?
Он неохотно ответил, глаз не открыв, не поворотив головы:
– Читал.
Ион постоял минут пять, страницами шелестел, шмыгал время от времени носом, затем сердито швырнул русского «Мизантропа» на стол, книга шлёпнулась, должно быть, раскрылась и слабо затрепетала листами, а Ион громко сказал:
– Это очень плохой перевод, Александр, даже слишком плохой, я вам удивлён!
Он открыл с досадой глаза, что за вздор?
Копья высоких свечей пугливо дрожали. Чернота позднего вечера тревожно глядела в окно. Сашку кричать не хотелось.
Он поднялся, обошёл кругом громадный свой стол, предмет бесплодного обожания, дёрнул шёлковый шнур, и пунцовые плотные шторы закрыли окно. Эти странные шторы завёл до него в этой комнате какой-то дурак. Они вовсе не подходили к серым обоям и были неприятны для глаз. Он терпеть эти шторы не мог, а до сего дня не сменил, всё куда-то бесцельно спеша, всё бегом да бегом, и теперь, может быть, в смене штор не слышалось ни малейшего смысла.