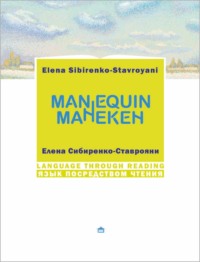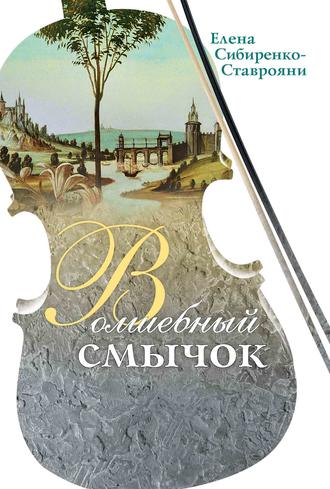
Полная версия
Волшебный смычок (сборник)
– Потом поймёшь, давай скорей мой парик.
(Её пышные волосы оказались искусственными).
Она надела парик, застегнула грацию и стала накладывать грим.
– Ни один не принёс помаду нужного оттенка. А я ведь просила. Разогнать их, что ли, к чертям, – сказала она о любовниках.
– Разгоните, – сказала я. – У вас муж хороший. И красивый.
– Ах, милочка. Ты бы посмотрела на него, когда он вынет изо рта челюсти, снимет с живота бандаж, а с головы накладку. Ты бы от ужаса всю ночь не сомкнула глаз.
– А любовники – тоже в бандажах и с накладками? – спросила я.
– Не упрощай жизнь, милочка. Не только же внешняя красота. Ум, чувство, тело – всё нужно. Я выбрала троих – каждый виртуоз в своей области.
– А зачем вам четвёртый – муж?
– Но он же отец ребёнка. Да и молотком кто-то должен стучать в доме, и деньги в него приносить. Ах, я заболталась… Когда будешь сегодня убирать грязную посуду, обрати внимание на тощую девицу в зелёном платье и прыщах, замазанных пудрой, – мою племянницу. Она недавно делала операцию, теперь у неё силиконовая грудь. Давай присмотримся. Если хорошо, может, и себе так сделать?
Когда я в этот раз, собирая грязные тарелки, подходила к какой-нибудь женщине, в голове вертелось: «А у неё тоже из силикона?»
* * *Я начала сильно уставать от хозяйкиных приёмов. Мне нравилось быть с её дочкой. Способность иметь живых детей не подлежала разочарованию. Но что бы было с моим ребёнком, родись он тоже манекеном, – зачем? Потом я думала: «Пусть бы он был, а там было бы видно. Пусть бы только он был». Как-то мы гуляли с Ники на бульваре – я завязала ей два больших белых банта и надела набекрень белый берет – все оборачивались нам вслед.
«Я её украду».
Я придумала план: просто и надёжно – как мой побег из магазина.
Два билета на ночной проходящий поезд лежали за подкладкой моей сумочки. Я подумывала, что взять из вещей, когда ко мне вошла хозяйка.
– Я не могу тебе заплатить на этой неделе.
Она всегда платила нерегулярно.
– Я уплатила чужие долги и теперь сама всем должна. Я ухожу – на выставке демонстрация коллагеновых губ и платиновых зубов. Интересно, как бы это смотрелось на мне?.. Проверь, как Ники играет гаммы – у неё завтра музыка. А со следующей недели – французский. Ты же понимаешь, для девочки нашего круга она должна….
«Музыка, – подумала я – … французский. Я не могу ей дать ничего. И никакого круга не будет».
Ники позвала меня поиграть. Я пришла, но голова у меня разболелась, и вскоре я спустилась к себе.
Чтобы отвлечься, я взяла вечернюю газету и начала просматривать.
«Разыскивается беглый манекен», – прочла я на первой странице.
В дверь тихонько постучали.
Я сунула газету в сумку, на цыпочках подошла к двери, глянула в замочную скважину и открыла дверь.
– Что случилось, Ники? Почему ты плачешь?
– Уходи отсюда, убегай скорей… Мама прочитала объявление в газете и хочет вернуть тебя в магазин. Я только что слышала, как она туда звонила. Беги! Она ушла – не хочет быть дома, когда за тобой придут. Мама хочет увидеть свой портрет на выставке. Они написали, что напишут портрет того, кто сообщит, и поместят его на Выставке Знаменитостей. Ещё и деньги, но для мамы не это…
Ники всхлипнула. Вынула что-то из кармана халатика.
– Беги. Вот деньги – тебе хватит на билет. Кажется, есть ночной поезд. Бери, это из моей копилки, это не мамины. Садись на такси, поезжай на вокзал и сразу уезжай.
Она разрыдалась.
Вокруг помутнело, словно у меня перед глазами появилось толстое стекло, которое всё исказило.
– Не плачь, – сказала я Ники, обняла её и расцеловала.
– Ты тоже не плачь, – сказала Ники.
– Я не умею плакать, – сказала я.
– Как жаль, что ты не человек, – сказала Ники, утерев слёзы.
Один из билетов, спрятанных за подкладку сумки, мне пригодился.
В купе я ехала одна.
* * *Поезд прибыл на конечную станцию ранним утром.
Я дождалась, пока открылось привокзальное кафе, и села за столик. Столик стоял у окна. Окно выходило на реку.
Пляж был безлюден. Река сверкала на солнце тёмными и светлыми полосами – дух захватывало. Как должно это впечатлять живых, если даже меня задело. Я и о еде забыла. (На минутку). Посмотрела вокруг. Живые быстро жевали, глотали, плевали, бросали и уходили. Конечно, они это видят каждый день, они же не торчали, сколько я, в четырёх стенах.
Когда я уходила, опять посмотрела в окно. По пляжу ходила женщина в белом халате и выбирала из урн бутылки. Неподалёку от воды мужчина раскладывал мольберт.
Я расплатилась (у меня почти ничего не осталось) и вышла.
На сдачу я купила газету и раскрыла её на странице, где было напечатано «Требуются на работу». Требовались судомойки и уборщицы. А ничего другого я и не умела.
– Вам нужна уборщица? – спросила я.
– Нужна, – ответил директор.
– Я хочу у вас убирать.
– Вы? – Он рассмеялся. – Посмотрите на себя в зеркало. Нам такие уборщицы не нужны.
Судомойкой меня тоже не взяли.
«А вдруг они распознали, что я – манекен?»
Ночь я провела на вокзале в комнате матери и ребёнка. (Я подумала о Ники, и перед глазами опять стало расплываться).
Я внимательно наблюдала за людьми, чтобы всё делать точь-в-точь, как они, и ничем от них не отличаться. Я смотрела, а потом обнаружила, что лежу головой на чьём-то боку и щека болит от впившейся пуговицы. Я не помнила, что было перед этим. Неужели я заснула? Я поморгала глазами, села поудобнее, достала зеркальце и начала отрабатывать мимику. Ничего не получалось. Проклятая улыбка как приклеилась.
«Всё-таки у манекена свои преимущества». Глядя на мою физиономию, никто не подумает, что я просидела всю ночь на вокзале и, кажется, согласилась бы вернуть саму себя в магазин за вознаграждение в виде чашки чая и бутерброда.
* * *Я обошла все адреса, указанные в объявлениях, и пошла не по объявлениям, а просто так.
Я немного заблудилась и забрела в какой-то сад. Мне повезло – я нарвала яблок. Они были такие кислые, что у живых скулы бы свело. А мне было сладко.
Вечерело. Пора возвращаться на вокзал – ночевать. Проходя в темноте мимо кафе, я вспомнила, какой вид открывался из окна утром: река, пляж…
Идея! Достойная живого. Я тоже могу, как та женщина в белом халате, пойти на пляж, собрать бутылки, сдать их, а на эти деньги купить еду.
Утром я перешла по мосту на другой берег и очутилась на пляже. Женщины в белом не было, но художник, как и вчера, сидел за мольбертом.
Солнце только начало всходить. Серое небо трескалось розовыми ручейками.
Вдалеке, возле лежака, валялась бутылка. Я пошла за ней. Подняла. Походила между лежаками.
Бутылок больше не было.
Возвращаясь, я замедлила шаг. Мне так хотелось взглянуть – что на мольберте и кто за ним. Я ни разу не видела живых художников. Тем более за работой.
Я подошла на цыпочках, остановилась. На холсте было точно, как в жизни. Как чудесно уметь так.
– Не люблю, когда стоят за спиной. Встаньте рядом, – сказал тот, кто сидел за мольбертом.
Я хотела подойти, но не могла двинуться с места.
– Я же говорю – встаньте рядом, – сказал он и обернулся.
Я узнала его раньше, чем он обернулся – точно так же он обернулся, уходя с выставки.
– Мне нужно, чтоб вы мне позировали, – сказал он после паузы. – Вы согласны?
«Могу ли я – манекен – позировать художнику?»
Я вошла в его мастерскую.
– Я передумал, – сказал он. – Я не буду влеплять вас в эту обойму лиц. Для этого я найду что-нибудь другое. Я хочу сделать ваш портрет. Даже не ваш. Это будет портрет материализованной одухотворённости.
Я так растерялась, что не нашлась, что сказать.
Он усадил меня возле окна в позе, показавшейся мне неестественной. Она утомляла. К концу сеанса я не чувствовала ни рук, ни спины. Ещё больше мучило то, что я его обманываю.
– Я – не та, за кого вы меня принимаете, – сказала я и словно окунулась с головой в ледяную воду.
– Я никого ни за кого не принимаю, – сказал он. – Мне важно, кого я вижу. Понятно?
– Нет, – сказала я. – То есть да.
– Так «да» или «нет»? – спросил он.
– Я не человек, – сказала я.
– А кто же?
– Я – манекен.[1]
Хорошо, что у меня не было сердца, а то бы оно разорвалось. И его бы опять не было.
Я встала. Сейчас он меня выгонит. Лучше уйти самой.
– Чепуха, – сказал он. – Важно не на что я смотрю, а что я вижу. Я уже вижу свою картину. Она займёт первое место на конкурсе «Одухотворённость». Я обязательно должен занять первое место. Тогда я смогу не гнать халтуру ради заработка, а… Сядь и не мешай мне работать. Ещё немного, и на сегодня хватит. Оплата в конце каждого сеанса.
Когда мы вышли из мастерской, он сказал:
– Странно…
– Что – странно? – спросила я.
– Как будто я тебя где-то видел.
«На выставке грязного нижнего белья», – подумала я. Я сказала:
– Вы ошиблись.
– Нет, – сказал он. – Я – художник. Я помню лица. Я не мог ошибиться.
– Может, случайно встречались в городе, – сказала я.
Он пожал плечами.
Мы расстались. Я направилась к вокзалу.
Через неделю я смогла снять номер в гостинице рядом с мастерской. Это было как раз вовремя – я начала засыпать. Если поначалу мне достаточно было сидя подремать полчасика, то теперь хотелось спать всю ночь в постели. Я заметила, что без сна поутру у меня румянец не такой яркий. На вокзале я пыталась заснуть, но стали мешать свет, шум, жёсткое сиденье и локти соседей. Ночью хотелось темноты и тишины так же, как утром – света и звуков.
– Ты чего такая бледная? – спросил он меня. – Ты где живёшь?
Я ответила и указала в окно на свой балкон. Час назад я перебралась в гостиницу.
– Смотри, ты не должна менять свой облик. Во всяком случае, пока я не окончу. И не вздумай худеть. Что ты ела сегодня на завтрак?
На завтрак я доела последнее из сорванных мною яблок, которое завалялось в сумке.
– Где же это ты их рвёшь? – спросил он. – У нас нет беспризорных деревьев. Все под охраной.
Я рассказала.
– Ты с ума сошла, – сказал он. – Там находятся владения Главного. Сейчас он в отъезде. Вход туда строжайше воспрещён. Сверхчувствительные приборы улавливают тепло, запахи, биотоки, исходящие от человека, – достаточно только приблизиться, и сразу включается сигнализация. Чудо, что ты не попалась. А то бы тебе несдобровать.
«Нет никакого чуда».
Он как забыл (а, может, и забыл), что я неживая, и вёл себя со мной, как с человеком.
– Ты не очень устала? – спрашивал он во время изнуряющих сеансов.
Он работал по многу часов подряд, не отходя от мольберта.
– Скоро конкурс, я должен успеть. Это будет мой шедевр. Я сделаю тебя, как живую. Благодаря светотени.
Мастерская была заставлена картинами, повёрнутыми лицом к стене.
Я спросила – почему. Он ответил, что должен несколько месяцев не видеть картину, тогда лучше видно – что не так. Если мазок грубый (резкий переход в цвете), надо сглаживать. А если смотреть каждый день, этого не увидишь.
С моим портретом он поступил так же.
– Я теперь свободна? – спросила я.
Больше всего на свете мне хотелось, чтоб он сказал: «Нет».
– Пока да, – сказал он. – Я позвоню через неделю-другую. Или позже. Если будет нужно.
Он позвонил на следующее утро.
– Быстрее приходи. Из-за возвращения Главного сроки переносятся. Открытие конкурса приурочено к его приезду.
Когда я прибежала, он стоял перед картиной и придирчиво вглядывался в неё.
– Я зря тебя побеспокоил. Сгоряча. Ты не нужна. Я и так всё вижу. А если хочешь – оставайся.
Я смотрела на портрет. Могла ли я мечтать о таком счастье, стоя на выставке в магазине?
Он подправлял прямо пальцами, сглаживая тона.
– Как вам удалось? – спросила я.
– Такое удаётся не каждый день. Может быть, раз в жизни.
– Вам обеспечены все победы на всех конкурсах, – сказала я погодя, хотя ничего не понимала в искусстве.
– Если этого не случится… После него, – (он кивнул на портрет), – я не смогу заниматься поделками.
В мастерской было холодно. Я подошла к камину.
– Возможно, ты мне понадобишься – в дальнейшем. Если не сильно изменишься.
Я хотела сказать, что манекены не меняются, но не сказала.
Он работал до сумерек.
У камина я отогрелась.
* * *Первый приз картина не получила.
«Нельзя оживить манекен. Это я во всём виновата». Лучше б я простояла всю свою жизнь в магазине на выставке. Или в закутке на последнем этаже. Или бы меня вообще не было.
– Вон отсюда, чёртова кукла, – тихо сказал он.
Если бы манекены были живые, я бы умерла.
* * *Я не помню, как очутилась на пляже.
Что он сейчас делает?
Телефонная будка пуста. Я зашла. И вышла. Смотрительница пляжа надевала халат и наблюдала за мной. Я подошла.
– Очень нужно позвонить, – сказала я. – А деньги я потеряла.
Она молча застёгивала пуговицы.
– Если бы вы разрешили по служебному…
– Идём, – сказала она.
Я шла впереди. Мне хотелось стереть её взгляд со своего затылка.
Мы вошли.
Я набрала номер.
Долго никто не подходил.
Женский голос произнес «Алло».
Он сказал «Дай мне трубку» и сказал «Слушаю».
Мне удалось нажать на рычаг.
– Никого нет? – спросила смотрительница.
Я пошла к выходу, чувствуя её глаза на своих лопатках.
У выхода я остановилась.
– Ну всё, иди, у меня обед, – сказала она.
Идти было некуда.
– Прогуляйся по парку, а через часок зайди ко мне.
Я вышла.
В парке вдоль центральной аллеи стояли застеклённые стенды. Под стёклами были газеты. Из-под стекла на меня смотрела моя фотография, а под ней – крупными буквами: «Разыскивается…»
Я бросилась прочь от стендов.
«Возможно, смотрительница потому и позвала меня. Не всё ли равно?.. Чем раньше, тем лучше».
– В привокзальном кафе нужно мыть по утрам посуду и чистить картошку. Если хочешь, я замолвлю словечко, там меня знают. Ночевать можешь в служебке.
Я была слишком самонадеянна, когда твердила себе, что манекены не меняются. Всего за несколько дней на лице облупилась краска, кое-где выгорели волосы, а большой и указательный пальцы правой руки потемнели от картофеля. Даже улыбка стала не такая. А хуже всего был взгляд. Встреть он меня сейчас (нет, лучше не надо), ему бы не пришло в голову – писать с меня портрет на конкурс.
С каждым днём становилось жарче, и людей на пляже прибывало.
Под вечер я пошла прогуляться в парк.
В витрине стенда меня уже не было. Под стеклом оказалась другая газета – фотография высокого мужчины в тёмном смокинге, шляпе, перчатках, с тросточкой в руке. Я прочла: «Наш Главный вручил Главный приз конкурса «Одухотворённость» нашему гениальному художнику…»
Буквы помутнели, я ничего не могла прочесть. Я подождала, протёрла рукой стекло, прочитала…
«Досаднейшая ошибка произошла при присуждении призов картинам и их создателям. Благодаря героическим усилиям нашего Главного выяснилось, что первая премия была присуждена в результате нечестных махинаций жюри и его связи с коррумпированными кругами с целью опорочить и исказить в наших глазах действительно прекрасное. Заговор раскрыт, виновные изобличены и наказаны. Истина торжествует. Побеждает подлинная красота одухотворённости: благодаря дымчатой светописи портрет живёт и движется, меняясь в зависимости от движения – символа непрерывной бесконечности жи…»
Меня схватили за руки – «Вырваться, убежать!» – руки и ноги были как деревянные.
– Я первый, – сказал один.
– Нет, я, – сказал другой. – Я первый заметил и выследил.
– Пусть ты первый заметил. Зато я первый схватил. Деньги мои.
– Нет, мои.
Подошла смотрительница.
– Отпустили бы девчонку, – тихо сказала она.
– Это не девчонка, это манекен, – сказал один.
– Нам хорошо заплатят, – сказал другой.
– Не нам, а мне. Я первый. Я первый заметил.
– Зато я первый схватил.
– Нет я…
… я… я… первый… первый…
* * *…в центральной витрине рядом с Тати, наряженной в сиреневое, стоял Норт в чёрном смокинге. Они хорошо смотрелись на вращающейся круглой площадке. В такт негромкой музыке Норт наклонял голову и широким жестом приглашал войти. И тотчас же Тати низко приседала в поклоне, приподнимая кончиками пальцев надорванные кружева сиреневого платья.
Я вошла, хотела идти, но… Меня взвалили и понесли.
Весь первый этаж занимала выставка.
Там, где я стояла на носках, теперь посреди расшвырянного белья лежала женщина – живая и голая.
Меня отнесли наверх в угол.
Ночью в красном уголке собирались. Они лежали перед видеомагнитофонами с «Боржоми» и иллюстрированными журналами в руках. Всем заправлял кто-то в серой визитке и котелке. Его называли Торн.
Я нигде не увидела Витауса. Не увидела никого из своих. Где они теперь?
Наутро меня втолкнули в маленькую каморку с маленьким оконцем под потолком и заперли дверь.
Льёт осенний коричневый дождь.
Из оконца видны люди, крошечные, как муравьи, – точно, как я, если б они посмотрели на меня оттуда.
Они нас не видят. Они не знают, что я и другие там, и что мы на них смотрим.
Две капли
Рассказ
Как я его не терпела! Его глаза, его сутулую фигуру, его улыбку, какую-то вымученную и жалкую, когда он смотрел на меня.
Ходил он в вечно помятом костюме непонятного цвета и стоптанных туфлях. Если было холодно, то надевал бесформенное пальто и старомодную шляпу. Каждый день приносил в авоське из магазина пакет кефира, пачку творога и четвертушку хлеба. Между тем, поговаривали, что он очень богат и, боясь за своё добро, никого не пускает и на порог квартиры. Только раз в неделю к нему приходила пожилая женщина в повязанном по-крестьянски платке и уходила с большой сумкой. Что в ней было, никто не знал.
Были у него и другие странности. Каждое утро он с большим полиэтиленовым кульком обходил мусорные баки и выбирал из них хлеб. Набив кулёк доверху, он забирал его домой. Никто не знал, что он потом делает с этим хлебом.
У старика не было ни детей, ни друзей, ни родственников. Он представлялся мне Гобсеком (я как раз увлеклась Бальзаком). Мы потешались над ним. Над его костюмом, авоськой с кефиром и привычкой рыться в мусорниках, выбирая хлеб. Взрослые улыбались исподтишка. Мы смеялись в открытую. Петька из второго парадного очень похоже передразнивал его сутулость, чуть подрагивающие руки и шаркающую походку. Мы строили разные догадки о нём. По одной он был скупщиком краденого. По другой – коллекционером редких картин или марок, а может, монет. По третьей – просто человеком с большими деньгами, который боится воров. И было ещё много всяких догадок. Но ни одну из них нельзя было проверить. Никто не знал, как и чем он живёт. И это волновало многих. Меня же волновало другое.
Он ходил за мной по пятам. Он мне жить не давал спокойно. Я не понимала, что так привлекло его во мне. Его окна выходили во двор, и я знала, что когда мы играем в «картошку» или просто сидим на лавочке, он наблюдает за мной. Его взгляд жёг меня. Если он встречал меня во дворе или на улице, он останавливался и молча смотрел на меня, и улыбался какой-то странной улыбкой, которую я не могла понять.
Надо мной посмеивались.
– Он просто влюбился в тебя, – скалил зубы Петька.
– Он хочет сделать тебя своей наследницей и завещать тебе свои миллионы, – предполагала Аллочка с третьего этажа.
– Ты выбрасываешь больше всех хлеба, из которого он потом делает удобрения и продает по баснословным ценам. Он хочет взять тебя в долю, – острил рыжий Валерка.
Меня выводили из себя эти шуточки. Я стала отворачиваться, когда видела его. Стала грубо или резко отвечать на его приветствие – со мной он всегда здоровался первым в отличие от остальных взрослых. Однажды он уронил авоську с продуктами и, кряхтя, собирал их. Я стояла рядом, но не помогла ему, а быстро ушла прочь, и долго чувствовала спиной его удивлённый взгляд.
Все было напрасно. Старик по-прежнему подолгу смотрел на меня.
– Верочка, скоро там свадьба? – кривлялся Петька и насвистывал марш Мендельсона. – Пусть поторопится, а то мой дедушка тебя у него отобьёт… Ты б хоть поинтересовалась, что он делает с этим хлебом. А то будешь богатеть на дармовых хлебах, не зная технологии производства.
– А что, ребята, это идея!.. – Аллочка даже подскочила. – Пусть Вера сходит к нему. Уж её-то он не выгонит.
– Да-а-а… – протянул Петька. – Узнать бы, что у него и как.
– А вдруг выгонит? – усомнился Валерка.
– Не выгонит, – сказала Аллочка.
– Я никуда не пойду.
– Слушай, Верка, ты должна прорваться. Общественность требует, – настаивал Петька.
– Я никуда не пойду, – повторила я. – Не хочу, чтоб он меня выставил. И вообще…
– А вот вообще… Вообще – надо уважать мнение большинства, – заключил Петька. – Даже если большинство не право. Ты должна у него побывать.
– Никому я ничего не должна. И большинству тоже, хоть правому, хоть неправому, то есть левому.
– Должна!
– Нет. Ни правому, ни левому, ни правому, ни неправому.
– Ты не должна, ты просто обязана. Супер! Мысль! Вера должна пробыть у него полчаса. Если она выполняет условие, получает приз. – Петька вскочил на ящик и закричал, подняв руку вверх: – Последняя новинка сезона! Свежайшая старая книга! – Он поднял руку с воображаемой книгой и потряс ею. – Шедевральный шедевр известного писателя! «Шагреневая шкура»!
– Кожа, – машинально поправила я.
– Ну как, Верка, идёт? Понудись тридцать минут у старикашки – и книга твоя навечно, – он знал мои слабые струны.
– И заодно бы сказала, чтоб он на тебя не пялился без конца, – сказал Валерка.
«Ну разве сказать, чтоб не пялился…» – подумала я.
– Идёт? – спросил Петька.
– А что я скажу – чего я пришла?
– Реклама товаров, ищешь дворника или м-м-м-м… рейд по сансостоянию квартир… Придумаешь что-нибудь.
Придумывать ничего не пришлось. Почти сразу, как я нажала кнопку звонка, дверь открылась.
– Верочка! – удивлённо и радостно проговорил старик из тёмной прихожей. – Входите же, входите… – он засуетился, закрывая дверь и пропуская меня вперёд, в комнату. Я несмело вошла.
– Входите, входите, Верочка. Сейчас я поставлю чайник, будем пить чай. – Он суетился со старомодной вежливостью, освобождая для меня место на ветхой кушетке, убирая какие-то вещи, газеты. Я разглядела пиджак с наполовину пришитой латкой.
Старик ушёл на кухню. Я села на кушетку и огляделась. Шторы немного задёрнуты, в комнате темновато. Посреди стоял покрытый скатертью круглый стол. За стеклом шкафа светились золотом на тёмных корешках книги, другого золота не было. О богатстве здесь ничего не говорило.
Старик внёс в комнату чашки, блюдца, розетки и расставлял на столе.
– Сейчас, сейчас, Верочка. – Он раздвинул шторы на окнах. – Чайник вот-вот закипит.
Он опять ушёл.
Я ничего не понимала. Почему он не спросил, чего я пришла, и решил поить меня чаем?
Я встала с кушетки и подошла к книжному шкафу. Пораз-глядывала книги. Потом обернулась. И замерла. Над кушеткой висел мой портрет.
Так он и застал меня. Поставил чайник на подставку.
– Да, Верочка. Это моя дочь. Как две капли воды похожа на вас. Да вы садитесь, Верочка…
Чуть дрожащими руками он продолжал расставлять на столе сухари, вазочку с вареньем, наливал чай.
– Вы извините мою назойливость, Верочка. Я сам чувствую, что нельзя так… Но не могу не… – его голос дрогнул, и он потянулся за вазочкой. – Берите же варенье. Меня угостили. Вишнёвое…
– А где сейчас ваша дочь?
– Умерла. У меня все умерли – и дочь, и жена, и сестра. В Ленинграде. Во время блокады. Катюшу вывезли, но спасти уже не смогли. Она умерла незадолго до прорыва блокады. Вот так. Я всю войну прошёл, и хоть бы ранило серьёзно, тяжело… а они… – он махнул рукой и отхлебнул чай.
– Портрет рисовал с фотографии один художник. Уже потом. На фотографии ей одиннадцать. Но на портрете она получилась взрослее…
Он вздохнул.
– Катюше сейчас было бы… Ох, только подумать… Да… Какого-то кусочка хлеба им всем не хватило… Верней, не хватало. Каждый день. А сейчас хлеб часто выбрасывают… Каждый день. Не могу я смотреть на это. Собираю и отдаю одной женщине. У неё подсобное хозяйство… – Он опять отхлебнул чай и ненадолго задумался. Потом спохватился: – Да вы пейте чай, Верочка. А то кормлю вас рассказами, а вы не кушаете, не пьёте.
Я подняла голову вверх и стала разглядывать потолок в трещинах, чтобы слёзы закатились обратно в глаза. Они не закатывались, но старик опять задумался и не смотрел на меня. Слёзы скатились в остывший чай…
Когда я вышла во двор, меня ждали все.
– Ну, даёшь, Верка, – больше часа, – сказал Петька.