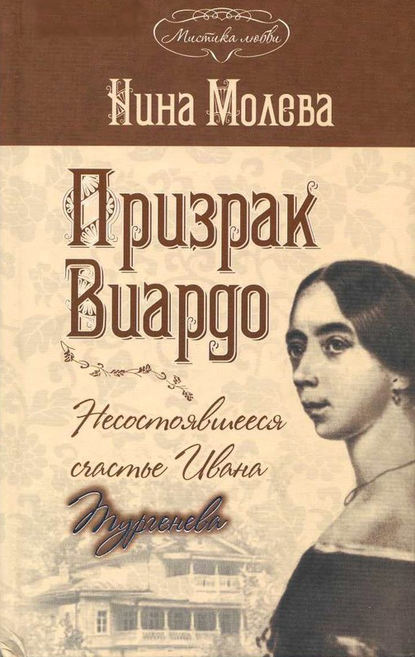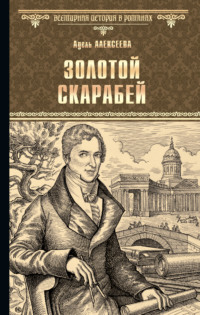Полная версия
Красно-белый роман. Лариса Рейснер в судьбе Николая Гумилева и Анны Ахматовой

Адель Ивановна Алексеева
Красно-белый роман. Лариса Рейснер в судьбе Николая Гумилева и Анны Ахматовой
© Алексеева А. И., 2008
© ООО «Алгоритм-Книга», 2008
«Еще не раз вы вспомните меня…»
Вместо предисловияКнига эта – не биография и не литературное исследование (хотя тут соблюдены все главные факты жизни героев – Ахматовой, Гумилева, Рейснер). Это документально-художественная книга с элементами эссе. Эссе (от франц. слова essai) – очерковый жанр чисто беллетризованного характера, написанный в свободной манере и дерзающий на собственную трактовку происходивших событий.
Начиналась история этой книги давно, в 60-е годы XX века, в годы оттепели. Тогда стали доступны закрытые архивы, можно было встретиться и поговорить с теми, кто лично знал наших героев, – с Рюриком Ивневым, Виктором Шкловским, Сергеем Городецким, с подругами Ларисы Рейснер, а также с почитателями Поэта Гумилева. Например, с князем Шаховским, у которого сохранилась тетрадь с золотым обрезом и переписанным в нее стихотворением, которое Гумилев якобы написал кровью на стене камеры.
А началось все, конечно, с Ларисы Рейснер, имя которой гремело в кино и в театре (пьеса Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия»). Литература тогда искала героев – и Ларису сделали чуть ли не номером «один». О ней были написаны книга для детей, очерк о Рейснер как журналистке, и я собрала материалы по переписке ее с замечательным поэтом Серебряного века – Николаем Гумилевым (как это было увлекательно!). Однако опубликовать их удалось только в 1989 году (сборник «Хронограф», издательство «Московский рабочий»).
Но лишь в этой, последней книге переписка печатается полностью и с комментариями. Какие поразительные личности, как схожи – и как противоречивы!
Анна Андреевна Ахматова, великий Поэт, была женой Гумилева, а Лариса Рейснер – его возлюбленной. Расставшись с Гумилевым, она стала женой политического представителя России в Афганистане Федора Раскольникова. В 1939 году этот бесстрашный человек написал открытое письмо Сталину с резкой критикой его плана построения социализма и, конечно, был репрессирован. Их брак с Ларисой не был удачным, и Лариса Михайловна покинула своего мужа еще там, в Афганистане.
Революция пьянила всех, а большевики свято верили, что рабочие европейских стран поддержат их и начнется мировая революция, а там и придет царство свободы и равенства для всех. Отчасти такие настроения охватили и русскую интеллигенцию. Вспоминая о писателе Андрее Белом, Ходасевич писал: «Я совсем не хочу сказать, что он был чужд революции, но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее не в большевизме». Среди большевиков были экстремисты, «наполеоны», но были и активные мечтатели, ставившие целью переустроить Россию. К таким людям принадлежала Лариса Михайловна. Она говорила тогда, что гибель Николая Гумилева – «единственное пятно на ризе революции» (знала бы она, сколько их будет еще!).
Это была очень красивая и смелая женщина, журналистка с острым пером, она могла укусить, как мангуста, и с годами вокруг нее все сгущались и сгущались тучи. Все трое ее мужчин погибли: Гумилев расстрелян, Раскольников, чуя за собой слежку, не вернулся в Россию и погиб, а последний ее друг и соратник Карл Радек был обвинен в заговоре.
Эта женщина мешала честолюбивым приспособленцам – и ее ранняя смерть (в 30 лет!) всем показалась противоестественной. В 60-е годы мне приходилось слышать рассказы ее друзей о противоестественной ее смерти. Быль, легенда? Будто в дом советской партийной элиты приносила молоко одна молочница и кто-то якобы подсыпал яд в бидон Ларисы.
Все были потрясены ее смертью. Дом печати не вмещал всех, кто хотел с ней проститься. Был там и Борис Пастернак. Образ Ларисы преследовал поэта, – не отсюда ли имя «Лара», которое он дал героине «Доктора Живаго»? И не отсюда ли созвучие фамилий Раскольникова и Стрельникова?
После ее похорон Пастернак написал Цветаевой: «…хочу написать «реквием» по Ларисе Рейснер. Она была первой и, может быть, единственной женщиной революции, вроде тех, о которых писал Мишле».
И он написал стихотворение «Памяти Рейснер»:
… Варилась жизнь, и шла постройка гнезд,Работы оцепляли фонарямиПри свете слова, разуме и звезд.Осмотришься, какой из нас не свалянИз хлопьев и из недомолвок мглы?Нас воспитала красота развалин,Лишь ты превыше всякой похвалы.Лишь ты, на славу сбитая боями,Вся сжатым залпом прелести рвалась,Не ведай, жизнь, что значит обаянье,Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.Ты точно бурей грации дымилась,Чуть побывав в ее живом огне,Посредственность впадала вдруг в немилость,Несовершенство навлекало гнев.Бреди же в глубь преданья, героиня.Нет, этот путь не утомит ступни.Ширяй, как высь, над мыслями моими:Им хорошо в твоей большой тени.Что касается Гумилева, расстрелянного в 1921 году, то Лариса его беззаветно любила. Его называли «важным», некрасивым человеком, склонным к игре, остававшимся до конца жизни ребенком. Но нет! Это был рыцарь без страха и упрека и последний романтик Серебряного века. Игра? Она, быть может, и была, но разве она не помогала ему справляться со столь жестоким временем? Революцию он старался не замечать. Несмотря на его надменность, холодность, напускную важность, женщины любили Николая Степановича, восхищались его смелостью. Ведь Гумилев снискал себе славу не только стихами (а был в первой пятерке поэтов Серебряного века), но и всей жизнью: получил двух Георгиев на войне, воевал до конца, уже будучи за границей, мог остаться там. Но – вернулся в Россию. А когда пришел его последний час, он так же смело встретил и смерть, говорят, даже не отвернулся к стене.
Из воспоминаний прошлых лет запомнились еще два. Во-первых, что записку с просьбой о помиловании от Горького передали Землячке, но она положила ее под стекло, а ранним утром приговор был приведен в исполнение. Во-вторых, доказательство участия Гумилева в заговоре Таганцева было не прямым, а косвенным. Главным аргументом против Поэта было то, что обвиняемый честно и прямо, на исторических примерах доказывал, что лучшей формой государственного устройства является империя.
«Если бы я была в Петрограде, он бы остался жив», – говорила Лариса Рейснер. И признавалась, что «совершенно беспамятно его любила».
До конца жизни, должно быть, она повторяла его стихи, обращенные к ней:
Еще не раз вы вспомните меняИ весь мой мир, волнующий и странный,Нелепый мир из песен и огня,Но меж других единый, необманный.Он мог стать вашим тоже и не стал.Его вам было мало или много,Должно быть, плохо я стихи писалИ вас неправедно просил у Бога.И как-то раз вы склонитесь без силИ скажете: «Я вспоминать не смею,Ведь мир иной меня обворожилПростой и грубой прелестью своею».«Поедем в Царское село!»
Оттого я люблю Гумилева,Что, ошибки и страсти влача,Был он рыцарем света и словаИ что вера его горяча.Н. Оцуп«Лери моя, приехав в полк, я нашел оба Ваши письма. Какая Вы милая в них… В моей голове уже складывается план книги, которую я мысленно пишу для себя одного (подобно моей лучшей трагедии, которую я напишу только для Вас). Ее заглавие будет огромными красными, как зимнее солнце, буквами: «Лери и Любовь», «Лери и персидская лирика», «Лери и мой детский сон об орле»…
Из письма Н. Гумилева – Л. Рейснер«Лариса Рейснер увела у меня Гумилева…»
Из воспоминаний А. Ахматовой в разговоре с автором книги в начале 1960-х годовПрекрасно Царское Село! Роскошный Большой Екатерининский дворец, построенный Растрелли, Арсенал в готическом стиле – память об увлечении Николая I оружием. И всюду – пруды и воды с навеки отраженными в них деревьями…
С наступлением весны зеленеют лужайки перед дворцами, появляются клумбы причудливых форм и изысканных рисунков. Величественная Чесменская колонна будто перекликается с собственным отражением, и ей вторят уютные ротонды и застывшие скульптуры. Даже красно-кирпичные гусарские казармы не нарушают прелесть ландшафта.
А вдали скромно стоит Царскосельский лицей – Пушкинский! Здесь располагается мужская гимназия, и сюда чаще всего залетают проказливые амуры. Все овеяно легендами и былями о влюбленностях поэта. В кого? В горничную Наташу, в императрицу Елизавету, супругу Александра I, во фрейлин… Здесь витает дух поэта, особенно ощутимый по вечерам, в сумерках.
Директор Николаевской мужской гимназии и сам будто из пушкинских времен. Иннокентий Федорович Анненский – специалист по классической филологии, за знание поэзии и сочинение стихов он может многое простить любому гимназисту. В этой гимназии учится и начинающий поэт, недавно приехавший сюда Николай Гумилев.
Родился он в Кронштадте в семье корабельного врача, потом Гумилевы переехали в Царское Село, а в 1900 году оказались в Тифлисе, в горах Кавказа. Так что мальчик с детских лет вкусил силу двух великих стихий – моря и гор. Это ли не толчок для поэзии?
У него красивые длинные руки, большая голова, чуть плоское, как на иконах, лицо и странный разрез глаз. А еще по-детски пухлые губы и – способность рассказывать занимательные истории о путешествиях и приключениях, о Стивенсоне, Стэнли, о Майн Риде и Киплинге и еще о многих других, неведомых писателях, которые хороши лишь тем, что возбуждают воображение. У него ясная, солнечная память, и своими рассказами, похожими на сказки, он способен увлечь любую девушку.
Впрочем, гимназистка Аня Горенко слушает его с рассеянным вниманием и – увы! – не сразу поддается обаянию юноши. Она довольно молчалива, стеснительна, робка, хотя иногда…
Так и видишь, как они идут по аллеям парка, Николай и Анна, а за ними мчится амур, прицеливаясь из своего лука. Юноша рассказывает о войне египтян с персами, которые использовали такую хитрость: для египтян кошки – священные животные, и персидский начальник приказал своим воинам взять в руки по кошке, – и что же? Египтяне не стали посылать в их сторону стрелы. Девушка поддается пылкой фантазии спутника и его пленительному голосу.
Иногда Аня подпрыгивает высоко-высоко и срывает маленькую ветку. Она – как циркачка, гибкая, и может даже изобразить настоящую змею, изогнувшись и достав носками головы. А как она, по рассказам ее старшего брата, плавает и ныряет – настоящая русалка! И это еще больше сводит с ума Гумилева. Впрочем, чаще они ходят, взявшись за руки, как Дафнис и Хлоя.
К сожалению, каждое лето Аня Горенко уезжает с родными – то в Севастополь, то в Евпаторию, то в Киев, и там в полной мере предается своей страсти – плаванью. Гумилев скучает по ней, но – так же пылко беседует с другими гимназистками, а еще он пишет стихи. Аня возвращается, и юноша снова чуть ли не каждый день провожает ее к дому, и она зачарованно слушает его фантазии.
В этой молчаливой девочке есть что-то загадочное, непонятное. Может быть, нелегкое детство, смешанная кровь?… Отец – Андрей Антонович – инженер по морской части, капитан 2-го ранга, к тому же красавец, легко тративший деньги, в том числе приданое жены, большой театрал и поклонник хорошеньких актрис (что, впрочем, не мешало ему быть толковым специалистом и дослужиться до чина статского советника и чиновника по особым поручениям при
Главном управлении торгового пароходства и портов). Мать Инна Эразмовна Стогова растила детей, воспитывала, а потом хоронила (туберкулез), была добра и непрактична. Семья кочевала из города в город; о матери Анна написала так:
… И женщина с прозрачными глазами(Такой глубокой синевы, что мореНельзя не вспомнить, поглядевши в них)…По преданию, был у Анны еще знаменитый предок – чингизид Ахмат (от него потом она образует свою поэтическую фамилию – Ахматова), которого в самом конце монгольского ига убил подосланный русский воин.
И все же первые, самые яркие и главные воспоминания Ахматова сохранила о Царском: о зеленом, сыром великолепии парков, лужайке, куда ее водила няня, об ипподроме и маленьких пестрых лошадках…
* * *…Прекрасно Царское Село, погруженное в зелень, овеваемую влажным воздухом, но не менее красиво оно и в зимние, рождественские дни. Припорошенные снегом аллеи, белые во мгле сугробы, шапки на кустах и особенно яркие, в позолоте, дворцы… Игра в снежки, катанье на коньках, снежная крепость.
(«Поедем в Царское Село!» – повторяю я строки Мандельштама и снова, уже зимой, еду туда.
Казармы, парки и дворцы,А на деревьях – клочья ваты,И грянут здравия раскатыНа крик: «Здорово, молодцы!»Казармы, парки и дворцы…Представляется зимний вечер, Рождество, гимназический бал, игра в почту – и вальс, на который девочка Аня Горенко решилась пригласить самого Анненского. Было ли это – неизвестно, но могло быть, ведь поэтические, робкие натуры способны на импульсивные поступки. А что касается личности самого Иннокентия Анненского, то влияние его на Анну представляется мне весьма сильным.)
Однажды в Николаевской гимназии был устроен рождественский вечер, костюмированный бал, на который были приглашены и девочки из Мариинской женской гимназии.
Открывал его сам директор – Анненский, – его хорошо знали в Царском Селе. Высокий и стройный, с благородными манерами, знаток поэзии и античности, несмотря на свои почти пятьдесят лет, Иннокентий Федорович был неотразим, и многие девушки (как это часто бывает в гимназическом возрасте) были в него влюблены. К тому же он изобретателен и находчив. В тот вечер, например, затеял литературную игру.
– Господа! – обратился он к гимназистам и гимназисткам. – Прежде чем танцевать и веселиться, предлагаю вам литературную игру, конечно, на пушкинскую тему. Я называю слово, а вы – кто больше? – читаете по нескольку строк нашего гения. Итак – ЗИМА.
Поднялся шум, но скоро стих, и зазвучали пушкинские строки:
Мороз и солнце – день чудесный,Еще ты дремлешь, друг прелестный?…И были детские проказыЕй чужды: страшные рассказыЗимою в темноте ночейПленяли больше сердце ей…Зимы ждала, ждала природа.Снег выпал только в январе,На третье в ночь…Мало-помалу голоса звучали реже, молчание затянулось…
И тут вырвался вперед Гумилев:
Какая ночь! Мороз трескучий,На небе ни единой тучи,Как шитый полог, синий сводПестреет частыми звездами.В домах все тёмно. У воротЗатворы с тяжкими замками.Везде покоится народ…В зале захлопали, Анненский пожал ему руку. Как было Анне не позавидовать?
…Тогда же появилась еще одна игра, сразу ставшая модной. Игра в почту. Каждый должен был приколоть на грудь свой номер, а «почтальон» собирал записки, письма и передавал их означенному номеру. Сумка почтальона полна тайн, – наконец-то каждый может объясниться в чувствах, не обнаруживая своего имени!
Анна взяла себе номер десятый, Николай – тринадцатый. Он вскрывал записки, но ни одна из них не была подписана номером десятым. Анна была рассеянна и ни на кого не обращала внимания. А он стоял возле колонны с демоническим видом, подражая, видимо, Лермонтову, и прищурившись глядел в зал. Узкая черная полоска закрывала левый глаз, матросская фуражка была ему явно мала – костюм пирата не получился.
Простояв так целый час, Николай скомкал все полученные голубые и розовые записочки, сунул их в карман и подошел к Анне:
– Тебе не надоела эта дурацкая игра? Может быть, лучше погуляем?
Он распахнул тяжелую темную дверь – и оба окунулись в свежий морозный воздух. Подведя ее к широкому освещенному окну, где было хорошо видно, вытащил ворох писем:
– Вот… И все об одном и том же. Читать неинтересно! – В знак особого к ней доверия и полного презрения к прочим девицам Николай прочел:
– «Вы мне очень милы, я буду вас ждать возле адмиралтейства в шесть часов. Ваша В.». Хм?… И ни одной записки от той, которую я ждал.
– Я не пишу записок, – равнодушно заметила Анна и повернулась к покрытой снегом статуе.
Гумилев с ожесточением стал рвать свои бумажки:
– Смотри, как они мне «дороги»!
Не отрывая глаз от статуи, она спокойно сказала:
– А знаешь, мне хочется вернуться в зал!
– Ты хочешь танцевать? – удивился он.
– Почему бы и нет? Играют вальс, пойдем! – и потащила его за руку в зал.
Видимо, амур все же натянул свой лук и послал стрелу в ее сторону. Вальс из оперы «Евгений Онегин» – знáк «дамского вальса». Анна прикрыла лицо полумаской, извлекла из кармана испанский веер. Она, кажется, решилась на то, о чем мечтала: пригласить директора!
Анненский стоял в стороне, лицо его было бледно. Отчего? Анна слышала, что еще в раннем возрасте у него нашли болезнь сердца и приговорили: сердце может остановиться в любой момент. Она леденела от этой мысли и вместе с тем не могла справиться с влечением, от которого замирала душа. Он был так обворожителен! У него такая чудная бородка и усы и, должно быть, изумительно пахнут. Запахи для Ани всегда имели особое значение. А еще для нее было важно сопереживание, умение чувствовать!..
Этого человека она должна пригласить на вальс! Он знает латынь и греческий, переводит европейских поэтов, его мать из рода Арапа Петра Великого – Ганнибала, значит, над ним витает дух Пушкина! Говорят еще, что он пишет стихи, но из скромности никогда не читает вслух. И уже выпустил поэтический сборник «Тихие песни», куда включил и свои переводы, но на обложке поставил не свое имя, а псевдоним – Ник. Т-о, то есть «никто», как назвал себя Одиссей в пещере циклопа Полифема. Если бы она решилась прочитать ему свои первые литературные опыты, он бы все понял… Анна все еще стояла, не решаясь сделать шаг. Ей был хорошо виден высокий лоб, обрамленный волнистыми волосами.
А Николай смотрел на нее, удивляясь внезапности перемены. Угловатая и худая, бледная, как призрак, она мрачно опустила глаза и вдруг подошла к Анненскому:
– Я хочу пригласить вас на дамский вальс, – проговорила, еле двигая губами.
Иннокентий Федорович с любопытством взглянул на угловатую гимназистку и, еле сдерживая улыбку, кивнул:
– Ну что ж, пожалуйста.
Она подняла невесомые свои руки, положила на его плечи, сделала шаг – и сама повела его в танце. Гумилев вытянулся на носочках, брови его приподнялись от удивления – он уже не спускал с них глаз…
Но ее смелости хватило ненадолго. Вопросительное выражение, застывшее на лице директора, отрезвило Анну. Не пройдя и круга, она внезапно опустила руки, прошептав: «Благодарю».
Потом в черновиках Анненского появятся такие строки, – уж не след ли того танца?
Зажим был так сладостно сужен,Что ныть перестали виски,Я розовых узких жемчужинЗубами узнал холодки.Но будто я снова вам нужен,О, руки, две тонких руки…* * *Поедем в Царское Село!Так улыбаются мещанки,Когда гусары после пьянкиСадятся в цепкое седло…Поедем в Царское Село!Там есть еще одно прекрасное местечко, где высятся дворцы, плоды трудов Растрелли, Камерона и Кваренги, в парке, на водах с лебедями и утками, и в той части, где стоят одно- и двухэтажные деревянные дома местных жителей. Здесь квартировали гусары. Здесь жили писатели и поэты, здесь жил Денис Давыдов. Сюда когда-то Пушкин привез свою молодую жену-красавицу. Не случайно Царское Село называют «городом Муз».
Николай и Аня Горенко стремятся в Царское.
За свои отроческие годы Гумилев, живя на Кавказе, впитал вкус к покорению вершин и пропастей, он возмужал, он много читал – библиотека у отца была превосходной. Душа впитывала любимого Лермонтова, и Надсона, и Ницше, а чувства были свежи и пылки. И, конечно, он влюблялся, как всякий поэт. В 1903 году посвятил одной гимназистке стихотворение:
Я песню слагаю во славу твоюЗатем, что тебя я безумно люблю, Затем, что меня ты не любишь,Я вечно страдаю и вечно грущу.Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу За то, что меня ты погубишь.Так раненный в сердце шипом соловейО розе-убийце поет все нежней И плачет в тоске безнадежной,А роза, склонясь меж зеленой листвы,Смеется над скорбью его, как и ты, О, друг мой, прекрасный и нежный.Неважно, кто был объектом воздыханий Николая, но уже в этих стихах просматриваются его будущие любимые темы: боль, страсть, влекущая к любви и смерти. Он обретает жизненный, любовный опыт.
Примерно то же самое обретение опыта, происходит с Аней Горенко. Родители ее разошлись, она уехала с матерью в Евпаторию, а потом в Киев. В Киеве жила у своей тетушки и училась в Фундуклеевской женской гимназии. С Гумилевым они изредка переписывались, он дважды ее навещал, а в 1907 году сделал предложение, но… получил отказ. Через год снова навестил ее, уже в Севастополе, и там они крупно поссорились.
Библиотека в доме небогатая, Анна читает немного, но чувствует сильно и глубоко. Конечно, влюбляется, причем ей больше нравятся взрослые мужчины, и не Коля, а другой блестящий выпускник Царскосельской гимназии занимает ее воображение. Она обозначает его тремя буквами – В. Г. К. За тремя буквами скрывается князь Владимир Голенищев-Кутузов. Это о нем спрашивала Анна мужа своей сестры фон Штейна: «Пришлите, пришлите, умоляю Вас, его карточку…» (Спустя несколько лет, когда его уже не будет, Ахматова напишет «Поэму без героя», связанную с этим человеком.) Он был старше Гумилева, уже поступил в Петербургский университет.
Где бы она ни была, в памяти Анны возникает любимое место – Царское Село, и, наконец, в 1908 году она вновь поселяется в Царском. Учится в Петербурге, на высших женских курсах, но живет в Царском Селе.
Там есть еще один заманчивый уголок на берегу озера – Царскосельское Адмиралтейство. Начальник его Евгений Иванович Аренс, выходец из немцев, приветливо принимает гостей, а его сын и три прехорошенькие дочери – своего рода магнит для молодежи. Они занимают уединенный павильон в Екатерининском парке – готические стены из красного кирпича с белыми зубцами, белые наличники на узких стрельчатых окнах, а рядом – целая флотилия шлюпок, яхт и лодок.
Кто только тут не бывал! О чем только не говорили, не спорили молодые люди! Музыкальный вундеркинд, композитор и музыкант Дешевов, поэт Комаровский, Евгений Полетаев, одноклассник Гумилева, братья Пунины (в далеком будущем один из них станет мужем Анны). Бывал как-то раз даже великий князь Александр Михайлович. Занимательные беседы, рассказы о приключениях чередовались с музыкальными экспромтами, с музыкой Скрябина, игрой в фанты, а чтение модных писателей Кнута Гамсуна, Ницше, Метерлинка – с катанием на лодках. Иногда появлялся Николай Гумилев.
А осенним днем 1908 года соизволила явиться и Аня Горенко.
Был приглашен и Анненский. Все его ждали, однако он опаздывал. И кто-то заметил: «Засмотрелся, должно быть, на то, как золото кленов и лип спорит с золотом дворцов».
В центре компании – красивый юноша, одаренный музыкант. Он импровизировал на рояле, Анна стояла рядом, и оба они (тоже игры амура?) обменивались долгими взглядами. Потом почему-то оказались в комнате одни. Анна читала из восточной поэзии, он играл. Эти мечтания закончилась тем, что он ее поцеловал…
Как раз в ту минуту в дверях появился Гумилев! Но он не снизошел до упреков, ревности или подозрений. Пианист красив? Ну что ж? Легко покорять девичьи сердца красавцам, однако Пушкин не был красив, а покорял, – и Гумилев тоже. Такие победы дорогого стоят! К тому же они с Анной намеревались не ревновать друг друга, каждый из них – свободен. А себе он говорил: терпение – вот врата любви. Надо ждать, выжидать, как охотник в лесу. Он влюблен в нее уже не один и не два года, делал предложение руки и сердца, но – видно, время еще не пришло.
Николай уверял, что вообще влюбился, еще не будучи с ней знаком, увидав ее в Сочельник, на Святой неделе. Анна потом сказала об этом в четырех строках:
Глаза безумные твоиИ ледяные речи,И объяснение в любвиЕще до первой встречи.А он позже напишет о начале их любви целое стихотворение под названием «Дафнис и Хлоя» (другое название «Современность»):
Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.На губах трепетало последнее слово.Что-то ярко светило – фонарь иль луна,И медлительно двигалась тень часового.Я так часто бросал испытующий взорИ так много встречал испытующих взоров,Одиссеев во мгле пароходных контор,Агамемнонов между трактирных маркеров.Так, в далекой Сибири, где алчет пурга,Застывают в серебряных льдах мастодонты,Их глухая тоска там колышет снега,Красной кровью – ведь их – зажжены горизонты.Я печален от книги, томлюсь от луны,Может быть, мне совсем и не надо героя…Вот идут по аллее, так странно нежны,Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.Они гуляли вечерами, светила луна, и Аня была как сомнамбула. А то вдруг закричит что есть мочи: «Хочу на небо! На Луну!»
Влюбленный гимназист пересказывал своей Музе старинные баллады, истории об Африке и временах Рюрика, о Тристане и Изольде или о гусарах, которые устраивали тут, в парке, шумные пирушки, и как денщики прятали бутылки с вином в земле, оставляя лишь верх горлышка, а гусары искали, и это называлось «собирать грибы». Проходя мимо гауптвахты, вспоминал Лермонтова, не раз сидевшего в сем мрачном здании: сперва за детскую саблю, потом за то, что сабля была слишком велика.