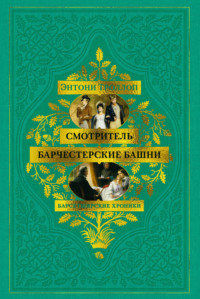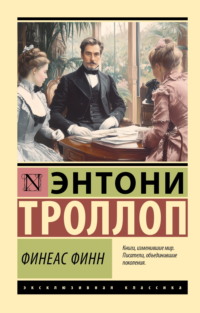Полная версия
Домик в Оллингтоне
Капитан Бернард был мужчина невысокого роста, не выше своего дяди, но в лице имел с ним большое сходство. У него были те же глаза, тот же нос, подбородок и даже рот, но лоб его был лучше, не так высок, менее выдавался вперед и как-то особенно лучше сформирован над бровями. Сверх того, он носил усы, прикрывавшие его тонкие губы. Вообще говоря, он был красивый мужчина и, как я уже заметил, имел вид самоуверенный, который уже сам по себе придавал молодому человеку особенную грацию.
В настоящее время Бернард находился в доме своего дяди, пользуясь пленительною теплотою летнего сезона – июль месяц еще далеко не был на исходе, задушевный друг его, Адольф Кросби, – был ли он или не был обыкновенным клерком, об этом я предоставляю моим читателям составить свои собственные мнения, – гостил вместе с ним у сквайра. С своей стороны я намерен сказать, что Адольф Кросби был более чем клерк или писец, и я не думаю, чтобы его назвал кто-нибудь писцом, даже Лили Дель, если бы он сам не дал ей повода считать его пустым, надменным человеком. Во-первых, человек, делаясь надменным, не может во время этого процесса оставаться обыкновенным писцом. Во-вторых, капитан Дель не захотел бы быть Дамоном какого-нибудь Пифия, о котором можно сказать, что он действительно обыкновенный писец. И опять, никакой писец не мог бы попасть в клуб Бофорт или Себрэйт. Это может служить сильным опровержением первого предположения со стороны мисс Лилианы Дель и весьма сильным опровержением высказанного ею последнего мнения. Правда, мистер Кросби действительно был надменен, правда и то, что он был клерком в генеральной комиссии. Но надо заметить, что генеральная комиссия находилась в Вайтмолле, между тем как бедный Джон Имс должен был ежедневно путешествовать из отдаленной части Лондона на Россель-сквэр, в грязную контору в Соммерсет-гаузе. Адольф Кросби, еще в молодости был приватным секретарем, где достиг некоторого авторитета и впоследствии получил место старшего чиновника, приносившее ему, кроме семисот фунтов стерлингов жалованья, еще высокое, заметное положение между помощниками секретарей и другими чиновниками, а это, даже с официальной точки зрения, что-нибудь да значило. У Адольфа Кросби были еще и другие отличия. Мало того что он был в дружеских отношениях с помощниками секретарей и имел в Вайтголле особую комнату с креслом, он пользовался правом стоять на ковре в клубе Себрэйт и ораторствовать, между тем как богатые люди слушали его, – не только богатые люди, но и люди, имевшие при фамилиях своих звучные приставки! Отличия Адольфа Кросби состояли более чем в приготовлении дельных докладов по генеральной комиссии. Он расположился перед воротами города моды и взял их штурмом, или, проще говоря, подобрал ключи к замкам этих ворот и прошел сквозь них. На пути светской жизни, в фешенебельном обществе, Адольф Кросби имел важное значение. Если житель Вест-энда, самой фешенебельной части Лондона, не знал, кто такой Адольф Кросби, значит, он ровно ничего не знал. Я не говорю, что Адольф был в близких отношениях с многими знатными личностями, но все же эти личности не гнушались знакомством с Адольфом Кросби, и его нередко можно было встретить в гостиных, а на парадных лестницах министров и подавно.
Лилиана Дель, – милая Лили Дель, – предупреждаю читателя, что она действительно премилое создание, и что история моя покажется ему пустою, если он не полюбит Лили Дель, – Лилиана Дель сделала открытие, что мистер Кросби – надменный человек. Но по долгу правдивого человека я обязан сказать, что он не принял бы этого факта за оскорбление, сделавшись надменным, он не сделался еще совсем дурным человеком. И вот еще что: нельзя же в самом деле ожидать от человека, которого ласкали и лелеяли в клубе Себрэйт, чтобы он держал себя в оллингтонской гостиной, как Джон Имс, которого никто не баловал и не лелеял, кроме разве матери. Наконец, эта частица нашего героя имела еще другие преимущества, кроме тех, которыми он пользовался в модном свете. Адольф Кросби был высокого роста, видный мужчина, с приятными и выразительными глазами, – мужчина, на которого бы вы обратили внимание, в какой бы гостиной ни встретились с ним, он умел поговорить, и в его разговоре было что-то привлекательное. Это не был денди или бабочка, которая сформировалась под влиянием солнечной теплоты и получила привлекательную пестроту в своих крылышках от солнечных лучей. Кросби имел свой собственный взгляд на вещи – на политику, на религию, на филантропические тенденции века, он это читал, и это тем более способствовало ему для верного выражения своих мнений. Быть может, он выиграл бы гораздо больше, не поступив так рано в Вайтгол. В нем было что-то особенное, что могло бы доставить ему лучший кусок хлеба при другой профессии.
Впрочем, в этом отношении судьба Адольфа Кросби была решена, и он примирился с ней, несмотря на ее неумолимость. На его долю выпало небольшое наследство, доставлявшее около ста фунтов годового дохода, а вдобавок к этому он получал жалованье, и больше ничего. На эти деньги он жил в Лондоне холостяком, наслаждался всеми удовольствиями, какие Лондон мог предоставить ему как человеку с умеренными, но почти независимыми средствами и ожидающему в будущем неприхотливой роскоши: ему хотелось иметь жену, собственный дом или конюшню, полную лошадей. Те удовольствия и даже прелести жизни, которыми он наслаждался, делали бы его в глазах Имса, если бы он узнал о них, баснословным богачом. Квартира мистера Кросби в улице Маунт была элегантна во всех отношениях. В течение трех месяцев лондонского сезона Кросби считал себя полным господином очень миленькой кареты. Он щегольски одевался, всегда прилично и со вкусом. В клубах умел держать себя наравне с людьми, получавшими вдесятеро больше дохода. Кросби не был женат. В душе он сознавался, что ему нельзя жениться на бедной невесте, как сознавался и в том, что ему не хотелось бы жениться на деньгах, и поэтому вопрос о женитьбе, о счастье супружеской жизни был отодвинут у него на задний план. Но… но в настоящую минуту мы не станем вдаваться с излишним любопытством в частную жизнь и обстоятельства нашего нового друга Адольфа Кросби.
После приговора, произнесенного над ним Лилианой, две сестры оставались на некоторое время безмолвными. Белл, как кажется, немного рассердилась на Лили. Редко случалось, чтобы она позволяла себе расточать похвалы какому-нибудь джентльмену, а теперь, когда она сказала несколько слов в пользу мистера Кросби, сестра упрекнула ее за это невольное увлечение, Лили что-то рисовала и через минуту или две совсем забыла о мистере Кросби, но Белл продолжала считать себя обиженною и не замедлила вернуться к прерванному разговору:
– Мне, Лили, неприятно слышать от тебя такие слова.
– Какие слова?
– Которыми ты назвала друга Бернарда.
– Ах, да! Я назвала его пустым, надменным человеком. А мне, так кажется, чрезвычайно приятно употреблять смешные слова там, где дело идет о смешном. Только я боюсь, что это может расстроить твои нервы. Неужели же при каждом разговоре нам должно обращаться к лексикону и отыскивать в нем приличные выражения, согласись, что это очень скучно, да и медленно.
– Все же, мне кажется, нехорошо отзываться так о джентльмене.
– В самом деле? Я и хотела бы выражаться лучше, да что же делать, если не умею.
«Если не умею»! Для взрослой девицы подобного неуменья не должно существовать. Дело другое, если бы природа и мать не наделили ее этой способностью. Но я думаю, что в этом отношении природа и мать были довольно щедры для Лилианы Дель.
– Во всяком случае, мистер Кросби джентльмен и умеет показать себя приятным. Вот мое мнение. Мама говорила о нем гораздо больше, чем я.
– Мистер Кросби – Аполлон, а я всегда смотрю на Аполлона как на величайшего… Я не досказываю, потому что Аполлон был…
В этот момент, когда имя бога красоты оставалось еще на губах Лили, в открытом окне гостиной промелькнула тень, и вслед за тем вошел Бернард, сопровождаемый мистером Кросби.
– Кто здесь говорит об Аполлоне? – спросил капитан Дель.
Девицы как будто вдруг онемели. Ну, что будет с ними, если мистер Кросби слышал последние слова бедной Лили? Белл всегда обвиняла сестру свою в опрометчивости – и вот результат! Но, по правде сказать, Бернард, кроме слова Аполлон, ничего не слышал, а мистер Кросби, идя позади, не слышал и этого.
Пленительны и музыкальны,Как звуки арфы Аполлона…– С струнами из его волос! – сказал мистер Кросби, не обращая большого внимания на цитату, но замечая, что сестры были чем-то встревожены и молчали.
– Какая должна быть неприятная музыка, – сказала Лили, – впрочем, может статься, у Аполлона были волосы не такие, как у нас.
– Волоса его уподоблялись солнечным лучам, – заметил Бернард.
В это время Аполлон поздоровался, и леди приветствовали гостей надлежащим образом.
– Мама в саду, – сказала Белл с той притворной скромностью, которая так свойственна молоденьким леди, когда молодые джентльмены застают их одних, как будто все заранее знают, что мама должна быть предметом их посещения.
– Собирает горох, – прибавила Лили.
– Так пойдемте же скорее помогать ей, – сказал мистер Кросби, и с этими словами все отправились в сад.
Сады Большого оллингтонского дома и Малого были открыты друг для друга. Их разделяли густая живая изгородь из лавровых деревьев, широкий ров и решетчатый железный забор, окаймлявший ров. В одном месте через широкий ров перекинут был пешеходный мостик, который затворялся воротами, никогда не знавшими замка. Сад, принадлежащий Малому оллингтонскому дому, был очень мал, да и самый домик стоял так близко к дороге, что между окнами столовой и железным забором оставалось весьма небольшое пространство в виде каймы, по которой тянулась вымощенная камнем дорожка, фута два шириною, доступная только для одного садовника. Расстояние от дороги к дому, не более пяти-шести футов, занято было крытым коридором. Сад позади дома, перед окнами гостиной, расстилался так отдельно, как будто тут не существовало ни оллингтонской деревни, ни дороги, ведущей к церкви. Правда, с зеленой поляны, тут же перед окнами, виднелся церковный шпиц, выглядывая из-за тисовых деревьев, посаженных в углу кладбища, примыкавшего к стене сада мистрис Дель, но никто из Делей не выражал своего неудовольствия при виде этого шпица. Главная прелесть оллингтонского Малого дома заключалась в его поляне, такой ровной, такой гладкой и мягкой, точно бархат. Лили Дель, гордясь своей поляной, часто говорила, что в Большом доме не найти такого местечка, на котором бы можно было поиграть в крикет. Трава, говорила она, растет там какими-то кочками, которых Хопкинс, садовник, никак не может или не хочет выровнять. В Малом доме этого нет, а так как сквайр не имел особенного пристрастия к игре в крикет, то все принадлежности ее переданы были в Малый дом, и крикет сделался там особым учреждением.
Говоря о саде, я должен упомянуть об оранжерее мистрис Дель, относительно которой Белл была решительного мнения, что Большой дом не имел ничего подобного. «Разумеется, я говорю только о цветах», – говорила она, поправляясь, потому что при Большом доме находился отличный виноградник. В этом случае сквайр был менее снисходителен, чем в деле крикета, и обыкновенно замечал своей племяннице, что в цветах она ничего не смыслит.
«Может быть, дядя Кристофер, – возражала она. – Мне все равно, только наши герани лучше винограда».
Мисс Дель была немножко упряма, впрочем, это качество принадлежало всем Делям мужского и женского пола, молодым и старым.
Нельзя также не сказать здесь, что попечение о поляне, оранжерее и, вообще, о всем саде, принадлежавшем к Малому дому, лежало исключительно на Хопкинсе, старшем садовнике Большого дома, а по этой простой причине мистрис Дель не считала за нужное нанимать особого садовника. Работящий парень, который чистил ножи и башмаки и копал гряды, был единственным слугою мужского пола при трех леди. Впрочем Хопкинс, главный оллингтонский садовник, имевший у себя работников, с таким же почти усердием наблюдал за поляной и оранжереей Малого дома, как за виноградом, персиками и террасами Большого. В его глазах это было одно и то же место. Малый дом принадлежал его господину, как принадлежала ему даже самая мебель в доме, дом этот был в полном распоряжении, а не отдавался на аренду мистрис Дель. Хопкинс, может статься, не слишком жаловал мистрис Дель, видя, что он вовсе не был связан какой-нибудь обязанностью в отношении к ней, как к урожденной леди Дель. Дочерей ее он любил, но тоже иногда делал им грубости, и делал их совершенно безнаказанно. В отношении к мистрис Даль он был холодно-учтив, и когда она отдавала Хопкинсу какое-нибудь серьезное приказание относительно сада, он не иначе исполнял его, как с разрешения сквайра.
Все это будет служить объяснением условий, на которых мистрис Дель жила в Малом доме, – обстоятельство, необходимо требующее объяснения раньше или позже. Ее муж был младший из трех братьев и во многих отношениях лучший. В молодости он отправился в Лондон и сделался землемером. Он так прекрасно исполнял свои обязанности, что правительство приняло его в коронную службу. В течение трех или четырех лет он получал большие доходы, но смерть внезапно постигла его в то самое время, когда только что начинала осуществляться золотая перспектива, которую он видел перед собою. Это случилось лет за пятнадцать до начала нашего рассказа, так что оставшиеся сироты едва сохранили воспоминание о своем отце. В течение первых пяти лет вдовства мистрис Дель, никогда не пользовавшаяся особенным расположением сквайра, жила с двумя маленькими дочерями так скромно, как только позволяли ее весьма ограниченные средства. В то время старуха мистрис Дель, мать сквайра, занимала Малый дом. Но когда старуха умерла, сквайр предложил этот дом бесплатно своей невестке, поставив при этом на вид, что ее дочери, живя в Оллингтоне, получат значительные общественные выгоды. Вдова приняла предложение, и затем действительно последовали общественные выгоды. Мистрис Дель была бедна, весь доход ее не превышал трехсот фунтов в год, и потому образ ее жизни был по необходимости весьма незатейливый, но она видела, что ее дочери становились популярными во всем округе, были любимы окружавшими их семействами и пользовались почти всеми преимуществами, которые принадлежали бы им, если бы они были дочерями оллингтонскаго сквайра, Деля. При таких обстоятельствах ей было все равно, любил ли ее или не любил оллингтонский сквайр, уважал ли ее или не уважал садовник Хопкинс. Ее дочери любили и уважали ее, и в этом заключалось все, чего она требовала для себя от целого света.
Дядя Кристофер был очень добр и любезен к своим племянницам, добр и любезен по своим суровым понятиям о доброте и любезности. В конюшнях Большого дома находились две маленькие лошадки, пони, которые были отданы в полное распоряжение племянниц, так что, кроме них, никто не имел права кататься на лошадках, за исключением разве каких-нибудь особенных случаев. Я думаю, сквайр мог бы подарить этих пони своим племянницам, но он думал иначе. Он пополнял их гардероб, посылая от времени до времени необходимые, по его мнению, материи, далеко, впрочем, не модные и не нарядные. Денег он не давал и не делал по этой части никаких обещаний. Они были Дели, и сквайр любил их, а Кристофер Дель, полюбивши однажды, любил навсегда. Белл была его фавориткой, вместе с племянником Бернардом она пользовалась лучшею теплотою его сердца. На этих двух существах он основывал все свои планы, предполагая, что Белл будет будущею госпожой Большого оллингтонского дома, впрочем, относительно этого плана мисс Белл оставалась в совершенном неведении.
Теперь мы, кажется, можем воротиться к нашим друзьям, которых оставили на поляне. Они, как нам уже известно, отправились помогать мистрис Дель собирать горох, но на пути к занятию встретилось удовольствие, и молодые люди, забыв о трудах хозяйки дома, позволили себе увлечься прелестями крикета. Железные обручи и палки стояли на местах, около них лежали моллеты и мячи, и притом из молодых людей образовались такие прекрасные партии!
– Я не играл еще в крикет, – сказал мистер Кросби.
Нельзя сказать, чтобы много ушло времени для этой игры, потому что мистер Кросби прибыл в Большой дом не далее как перед обедом предшествовавшего дня. Через минуту моллеты были уже в руках играющих.
– Мы, конечно, разделимся на партии, – сказала Лили, – Бернард и я будем играть вместе.
Но этого не позволили, Лили считалась героинею на поле крикета, а так как Бернард был искуснее своего друга, то Лили заставили взять себе в товарищи мистера Кросби.
– Аполлон не умеет попадать в обручи, – говорила впоследствии Лили своей сестре, – но как грациозно он делает это!
Лили была побеждена, и потому ей можно извинить небольшую досаду на своего товарища. Впрочем, надобно сказать, что мистер Кросби до отъезда своего из Оллингтона научился прекрасно попадать в обручи, и Лили хотя все еще считалась царицею поля, но должна была допустить в своих владениях и господство мужчины.
– Мы не так играли в… – сказал Кросби во время игры и вдруг остановился.
– Где же это вы играли? – спросил Бернард.
– В одном месте, где я был прошлое лето, в Шропшейре.
– В том месте, мистер Кросби, где вы были прошлое лето, в Шропшейре, не умеют играть в крикет, – сказала Лили.
– Я знаю, ты хочешь сказать, что он был у леди Хартльтон, – сказал Бернард.
Здесь мы заметим, что маркиза Хартльтон была очень важная персона – передовая личность фешенебельного света.
– А! у леди Хартльтон! – возразила Лили. – В таком случае, конечно, мы должны отдать ей первенство.
Эта маленькая ирония имела значение для мистера Кросби и, разумеется, осталась у него в памяти. Он старался избегать имени леди Хартльтон и не упоминать о ее поляне для игры в крикет. Несмотря на то, он не сердился на Лили Дель, напротив, она нравилась ему, но Белл нравилась еще больше, хотя и мало говорила, Белл, надо сказать, была в семействе красавица.
Во время игры Бернард вспомнил, что они пришли просить обитательниц Малого дома к обеду в Большой дом. Они обедали там накануне, и дядя молоденьких леди отправил кавалеров просить их к обеду и на этот день.
– Я пойду спросить об этом мама, – сказала Белл, освободясь от игры.
По возвращении на поляну она объявила, что она и сестра должны исполнить приказание дяди, но что мама предпочитает остаться дома.
– Она хочет покушать гороху, – заметила Лили.
– Так отправить его в Большой дом, – сказал Бернард.
– Нельзя, Хопкинс не позволит, – сказала Лили, – он называет это смешением вещей. Хопкинс не любит смешений.
Когда кончилась игра, молодые люди начали бродить по саду, перешли из малого в большой, добрались до его окраины из мелкого кустарника, вышли на соседние поля, где еще лежали остатки сушившегося сена. Лили взяла грабли и минуты две гребла сено, мистер Кросби, сделав попытку набросать на воз сено, должен был заплатить поселянам полкроны за поздравление с благополучным приездом. Белл спокойно сидела под деревом, заботясь о сохранении в лице нормального румянца, между тем мистер Кросби, убедясь, что подбрасывание сена очень утомительно, бросился под то же самое дерево, приняв позу настоящего Аполлона, как сказывала Лили своей матери поздно вечером. Бернард не мог придумать лучшей шутки, как бросить на Лили охапку сена, Лили, отвечая тем же, едва не задушила мистера Кросби – разумеется, без всякого умысла.
– Ах, Лили, – заметила Белл.
– Ради бога извините, мистер Кросби. Это все Бернард виноват. С вами, Бернард, никогда другой раз не пойду на сенокос.
Таким образом, все были веселы, все как-то особенно настроены к дружескому развлечению, одна Белл спокойно сидела под деревом и только изредка прислушивалась к словам мистера Кросби. Время, проведенное в обществе, где для оживления беседы требуется весьма немного разговора, имеет свою особенную прелесть. Белл была не так развязна и жива, как сестра ее Лили, и, когда, спустя час после этого, сестры одевались к обеду, она признавалась, что провела время самым приятным образом, хотя мистер Кросби и не был слишком разговорчив.
Глава III
ВДОВА ДЕЛЬ
Так как мистрис Дель Малого дома не принадлежала, по своему происхождению, к фамилии оллингтонских Делей, то не представляется ни малейшей надобности утверждать факт, что в ее характере не следует отыскивать особенностей, свойственных характеру Делей. Эти особенности не были, может статься, очень заметны и в ее дочерях, которые в этом отношении более заимствовали от матери, чем от отца, при всем том внимательный наблюдатель легко заметит в них оттенки характера Делей. они были постоянны, тверды и иногда очень строги в своих суждениях, они склонны были думать, что весьма много значит принадлежать к фамилии Делей, но не имели расположения много говорить об этом и гордиться, у них была своя лучшая гордость, которая досталась по наследству от матери.
Конечно, мистрис Дель была гордая женщина, но она гордилась вовсе не тем, что исключительно принадлежало ей самой. По своему происхождению она была гораздо ниже мужа, потому что ее дед был почти никто. Ее состояние было довольно значительно для ее скромного положения в жизни, и доходы с него служили главными источниками ее существования, но этого далеко не достаточно, чтобы гордиться им как богатством. Она считалась некогда красавицей, и даже теперь, на мой взгляд, все еще была очень хороша, но, разумеется, в эту пору жизни, после пятнадцати лет вдовства, с двумя взрослыми дочерями на руках, она не гордилась своей красотой. Не имела она также сознательной гордости в том, что была леди. А что она была леди, снаружи и внутри, с маковки головы до подошвы ног, в голове, в сердце и в уме, леди по воспитанию и леди по природе, леди также по происхождению, несмотря на недостаток в этом отношении ее деда, я ручаюсь за этот факт – meo periculo. Сквайр, не питая к ней особенного расположения, признавал, однако же, в ней это достоинство и во всех отношениях обходился с ней как с равной себе.
Ее положение требовало, чтобы она была или очень горда, или уж очень покорна. Она была бедна, а между тем ее дочери занимали положение, которое принадлежит только дочерям богатых людей. Они пользовались этим положением как племянницы бездетного оллингтонского сквайра и, как его племянницы, по мнению мистрис Дель, имели полное право на его ласки и любовь, не в ущерб уважения к ней самой или к ним. Весьма дурно выполняла бы мистрис Дель материнские обязанности в отношении к своим дочерям, если бы позволила своей собственной гордости занять место между ними и теми материальными выгодами, которые дядя в состоянии был предоставить им. Через них и для них она бесплатно получала дом, в котором жила, и пользовалась многим, что принадлежало собственно сквайру, для себя не получала ничего. Брак ее с Филиппом Делем не нравился его брату сквайру, и сквайр, при жизни еще Филиппа, продолжал показывать, что изменить чувства его в этом отношении не было никакой возможности. И они не изменились. Прожив несколько лет в самом близком соседстве, живя, можно сказать, в одном и том же семействе, сквайр и мистрис Дель не могли сделаться друзьями. Между ними никогда не было ссоры, об этом нечего и говорить. Они постоянно встречались. Сквайр бессознательно оказывал глубокое уважение вдове своего брата, с своей стороны вдова вполне ценила любовь, оказывавшую дядей ее дочерям, но все-таки они не могли сделаться друзьями. Мистрис Дель никогда не говорила сквайру слова о своих денежных делах. Сквайр ни слова не говорил матери о своем намерении относительно ее дочерей. Таким образом они жили и живут в Оллингтоне.
Жизнь, которую проводила мистрис Дель, нельзя назвать легкой жизнью, она не была лишена многих трудных, тяжелых усилий с ее стороны. Теорию ее жизни можно выразить следующими словами – мистрис Дель должна похоронить себя, собственно для того, чтобы дочери ее счастливо жили на свете. Для приведения этой теории в исполнение необходимость требовала, чтобы она воздерживалась от всякой жалобы на свою участь, не показывала перед дочерями ни малейшего вида, что ее положение горько. Счастье их жизни на земле было бы отравлено, если бы они заметили, что их мать, в своей подземной жизни, испытывает ради них и переносит всякого рода лишения. Необходимо было, чтобы они думали, что сбор гороха в коленкоровой шляпке с опущенными полями, долгое чтение книг перед камином и одинокие часы, проводимые в размышлениях, составляли ее любимую наклонность. «Мама не любит показываться в обществе», «Я не думаю, чтобы мама была где-нибудь счастливее, кроме своей гостиной» – так обыкновенно говорили ее дочери. Я не думаю, чтобы их научали говорить подобные слова, они сами приучились к мысли, которая заставила их выражаться таким образом, и уже в ранние дни своего появления в обществе привыкли отзываться так о своей матери. Но вскоре пришло время – сначала к одной, а потом и к другой, – когда они узнали, что это было совсем не так, и узнали также, что для них и за них бедная мать их много страдала.