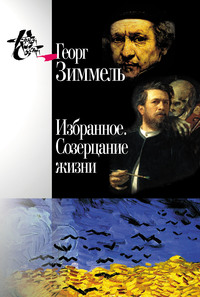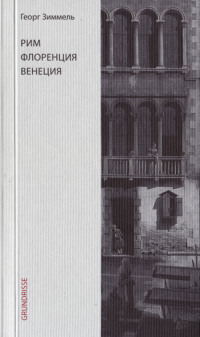Полная версия
Избранное. Философия культуры
Однако в понимании рационализма в область прав разума входят не только всеобщность и необходимость положений, которые можно толковать как формы опыта, но и утверждения, полностью выходящие за пределы опыта, поскольку они касаются либо абсолютного целого, либо абсолютного характера бытия, – тогда как опыт дает нам лишь несовершенное и относительное, – или вообще выходят за границу явления вещей. Кант показывает, что эти мнимые познания разума, как он называет их психологического носителя в отличие от образующего опыт рассудка, ввиду их невозможности наполниться чувственным содержанием, просто видимость; тем не менее и они вводятся в организм духа, продукт которого есть реальный для нас мир. Они, правда, ничего не говорят о вещах, но служат указующими точками направления к цели, к которой движется наше исследование лежащих за пределом опыта вещей, не будучи способным когда-либо достигнуть их. Так, например, цель природы мы не можем познать ни в отдельном случае, ни в целом; однако для понимания организмов наше исследование должно носить такой характер, будто цель их построения – совершенная жизнь; для понимания бытия вообще – будто моральная сущность разума составляет конечную цель природы; для понимания истории – будто мировое государство, обладающее совершенной культурой и свободой всех индивидов, служит намерением Провидения.
Этой мыслью, согласно которой сверхэмпирические понятия в качестве познания реальности беспредметны и обманчивы, но в качестве указывающих путь нашему познанию осуществляют незаменимую функцию, – этой несказанно плодотворной мыслью Кант превратил проклятие метафизики в благословение. Приведу еще один пример. Философская спекуляция всегда полагала, что открыла основную субстанцию или основную способность, в которой все многообразие вещей находит свое единство, все различные понятия находят свое высшее, объединяющее понятие. Конечно, для наших способностей познания абсолютное единство бытия неуловимо; однако при всей иллюзорности его открытия оно совершенно необходимо как идеал и регулятивная сила нашего опыта; опыт не должен удовлетворяться предлежащими дискрепантностью и чуждостью явлений, но для каждого из них искать высшее единство, будто он действительно достигнет абсолютной основы вещей, которая в сущности закрыта для него. Наше познание, которое состоит в объединении внеположных явлений во все большие закономерности, остановилось бы, если бы оно не следовало воображаемой цели единства всего сущего. Однако согласно мышлению, которое, как бы с другой стороны, доводит фрагментарно данную действительность до абсолютно законченной картины, и различие вещей бесконечно. Не существует двух явлений, даже двух фрагментов, принадлежащих двум явлениям, равных друг другу, каждая точка бытия абсолютно индивидуальна и непохожа на любую другую, – как ни много мнимых тождеств среди вещей усматривает недостаточная острота нашего познания. Но и это утверждение мы не вправе применять к объективному бытию, ибо внутри него, насколько нам позволяет судить опыт, т. е. насколько это нам вообще доступно, различие повсюду наталкивается на границы и уступает место тождеству. Так же очевидно, однако, что этот принцип обладает полной значимостью в качестве руководящей нити нашего познания. Ибо так же как нам не следует останавливаться на различиях при первом ви́дении вещей, а надлежит искать их глубже лежащие равенство и единство, – нам следует не удовлетворяться и этим, а искать за открытым равенством все более глубокую индивидуализацию, никогда не считать это равенство решающим, но видеть в нем предварительную ступень к еще более тонким, доступным острому взору особенностям. Следовательно, то, что в качестве метафизических утверждений было нереализуемо и взаимно снимало друг друга – абсолютное единство вещей и их абсолютная индивидуализация – оказалось вполне совместимым друг с другом и господствует в действительности в процессе человеческого познания повсюду, где признается не законом вещей, а законом нашего исследования. Следовательно, подобно тому как сенсуализм прав, утверждая, что не может быть познания без чувственных впечатлений, – хотя и в неожиданном для него значении, согласно которому чувственные впечатления суть необходимый, но сам по себе еще не образующий познание материал опыта, – так и рационализм прав в новом смысле. Ибо хотя понятия, извлекшие свой характер и меру не из опыта, значимы, но и они сами по себе суть не познание, а только формы для упорядочения и регулирования чувственных впечатлений и отдельных данных опыта, в результате чего создается действительное познание, которое есть опыт.
Из этого установления отношения между сенсуализмом и рационализмом возник основной принцип величайшего значения: истинная картина мира складывается посредством общей деятельности всех духовных энергий. Таким образом, преодолена односторонность всех учений, которые объявляют одно учение носителем истины за счет других; тогда как оценка духовной энергии вообще как источника мира, о котором можно говорить, сохраняется. Если объективность состоит в том, чтобы уравновешивать субъективные притязания и переводить их в более высокое единство по ту сторону их односторонности, то объективность отправной точки Канта отражена в объективности этой завершающей и решающей мысли. Мы последуем за ней в ее различных формах, чтобы в отдельных случаях увидеть, как Кант устраняет беспомощность познания, для чего прежде обращались к помощи одностороннего господства душевных импульсов.
Основная проблема такова: мы не можем отказаться от безусловной верности и общезначимости известных знаний; математика, закон причинности, подведение явлений под категории субстанции и качества, временность бытия несомненно обладают непререкаемой достоверностью во всех наших высказываниях о вещах. Но как же это возможно, ибо мы ведь знаем о вещах лишь то, что они нам показывают, и располагаем поэтому только уже данным и индуктивным заключением из него? Ведь такая достоверность возможна только в логическом мышлении, протекающем чисто формально в своих границах; действительность же дана нам только в опыте, который всегда остается открытым для корригирования и не дает абсолютной необходимости такого рода законов. Достижение Канта здесь в том, что он открыл третий, действующий в нашем познании элемент: законы, посредством которых из чувственных впечатлений возникает опыт; эти законы всеобщи и необходимы, но таковы они именно для предметов опыта. Несмотря на то, что они получены не из опыта, или именно потому, они господствуют над ним. Конечно, мы знаем о вещах лишь поскольку они отдают себя нам в чувствах; но не только таким образом, а лишь когда чувственные впечатления упорядочиваются в формах, которые не находятся в них самих и значимость которых поэтому для всех предметов опыта без исключения с самого начала установлена, ибо только посредством этих законов они становятся предметами опыта. Возникал вопрос: что такое закон причинности и причинная связь вещей? Этот закон не есть логическая необходимость; мы можем мыслить мир, в котором он не действует; из чувственных впечатлений он также не может происходить, ибо они демонстрируют всегда только чередование, а не внеположность, причинная связь есть нечто недоступное созерцанию, лежащее за чувственными образами вещей. Кант доказывает: сама эта последовательность чувственных впечатлений, называемая нами опытом, была бы невозможна, если этому не предпослан закон причинности. Так, чувственные впечатления вещей проходят при всех обстоятельствах через наше сознание друг за другом. Представления о таких вещах, которые длительно одновременно существуют рядом, следуют как чувственные впечатления друг за другом, так же, как представления о том, что и фактически происходит друг за другом. Сенсуалист, относящий познание только к восприятиям, не мог бы, например, определить, следовали ли в самом деле друг за другом воспринятый солнечный свет и воспринятое затем тепло, или они действительно существуют одновременно, как деревья в лесу, которые я совершенно так же воспринимаю лишь друг за другом. Тогда то, что мы называем опытом, вообще бы не состоялось, возник бы лишь практически недостоверный фантом, блуждающая случайность представления, жертвой которой мы, правда, достаточно часто оказываемся, но которую в принципе отличаем от доступного нам эмпирического познания. Для того чтобы эти одинаковые по форме чувственные образы стали различными по форме опытными данными, какими они для нас действительно существуют, мы должны быть уверены, что в одном случае последовательность восприятий необходимо определена, в другом же может быть обратной или происходить хаотически. Вопрос, на основании чего устанавливается это убеждение о необходимом порядке или связи определенных восприятий, дело особого исследования. Причинность же только название этой необходимости, уверенности в том, что мы постоянно встречаем в опыте эту последовательность. Если бы мы не исходили из того, что за каждым событием, повторяющимся как тождественное, неминуемо последует другое, также всегда тождественное, – независимо от того, что наши чувства, отклоняясь, воспринимают после этого первого совсем другое, – мы, правда, имели бы чувственные впечатления, но они не дали бы нам опыта. Таким образом, единичные чувственно данные факты нуждаются для тех целей, от которых не может отказаться и сенсуалист, в общей сверхчувственной предпосылке; она необходима, т. е. восприятия должны всегда иметь возможность верифицировать ее и в тех случаях, когда фактический ход восприятий в отдельном случае полностью от этого отклоняется. Этим создан один из глубочайших синтезов мировоззрения: необходимо-всеобщее, как будто просто мысленное построение по отношению к эмпирическим фактам оказывается условием именно этих фактов. Однако такое значение присуще этому необходимому лишь поскольку оно есть форма, в которой упорядочивается опыт; оно не необходимо по мысли, его невозможно доказать, исходя из чистой логики, – и все-таки оно необходимо, необходимо для опыта. Такова новая категория, открытая Кантом: необходимые понятия и положения, имеющие общее значение, не потому, что они отворачиваются от воспринимаемого бытия, а потому, что они к нему поворачиваются, независимые от опыта, но лишь потому, что опыт зависит от них, – об этой связи Кант был вправе с гордостью сказать, что его предшественникам она «никогда не приходила в голову».
Этот же характер значимости Кант применяет для геометрических положений. Восприятие цвета, данное чувством, еще не есть пространственный предмет, которым мы занимаемся в опыте. Чтобы стать таковым, этот сырой материал должен получить с помощью душевной энергии особую форму. Эта форма – пространственность. В дальнейшем мы подробно остановимся на ее значении в качестве исходной точки кантовского мышления. Здесь мы предвосхитили дальнейшее исследование, чтобы пояснить характер геометрических положений. Что геометрические аксиомы описывают сущность нашего пространства, означает только, что в них формулируются правила, по которым наш дух при формировании наших чувственных впечатлений обращается к пространственным образованиям нашего опыта. Пространство, которое может быть воспринято только в чувственных явлениях, руководствуется аксиомами, так как только посредством их действия в нашем духе создаются эти явления. Геометрические аксиомы, так же как и закон причинности, не обладают логической необходимостью, можно мыслить пространства, а следовательно, и геометрии, в которых действуют совершенно иные аксиомы, как показала неевклидова геометрия в век после Канта. Но они совершенно необходимы для нашего опыта, так как только они и создают его. Поэтому несомненной ошибкой Гельмгольца было рассматривать возможность лишенного противоречия представления о пространствах, в которых не господствуют аксиомы Евклида, как опровержение утверждаемых Кантом всеобщности и необходимости этих аксиом. Ибо кантовская априорность означает всеобщность и необходимость только для познаваемого мира, не логическую, абсолютную значимость, а значимость лишь для сферы воспринимаемых объектов. Наша геометрия относится к открытому Кантом типу познаний, обладающих всеобщностью не как продукты чистого мышления, а как условия опыта; они не черпаются из опыта, как полагает сенсуализм, но могут осуществлять свою функцию, образование опыта, только в применении к чувственности. Поэтому неевклидовы геометрии лишь в том случае опровергли бы наши аксиомы, если бы кто-нибудь обрел свой опыт в псевдосферическом пространстве или соединил бы свои ощущения в пространственное образование, в котором не имела бы значимости аксиома параллельных линий.
Нет необходимости в дальнейших примерах, чтобы показать сущность этих априорных положений, которые освободили размышление о человеческом познании от мучительной и неудовлетворяющей альтернативы между чувственностью и свободным от чувств разумом; эти положения послужили основой нового синтеза, в котором Кант объединяет всеобщность разума и единичность чувственных впечатлений в новом понятии опыта, определяемого им как продукт чувственности и рассудка. Реальное познание вещей может быть ограничено опытом, не принижая этим высшие познавательные способности человека с всеобщностью и необходимостью их высказываний, поскольку они поняты как законы, придающие форму опыту Именно если признавать только опыт, необходимо признать, что условия опыта, создающие каждый его случай, значимы с полной достоверностью для всей сферы возможного познания.
Лекция 3
Рассмотренное в конце предыдущей лекции открытое Кантом понятие опыта сталкивается с рядом трудностей, которые, быть может, являются следствием совсем не его внутреннего значения, а еще не установленной связи, еще не уясненного отношения к прежним, также с полным правом сохраняемым понятиям и мысленным требованиям. С такой оговоркой упомяну три трудности, связанные с учением априорности, разрешение которых представляется мне возможным лишь постепенно, но очень важным для понимания внутренней сущности критики разума.
Мысль, что свойства познающего субъекта сами суть условия познания, что, следовательно, применительно к каждому познаваемому предмету можно сразу, не исследуя его, назвать те определения, которые приданы ему познавательными способностями субъекта, т. е. самый процесс познания, – эта мысль, настолько простая, что ее позднее открытие, собственно говоря, кажется чудом, непосредственно понятна; однако безусловная значимость какого-либо с определенностью формулированного положения не следует из него столь непосредственно, как полагает Кант. Априорность, фактически образующая в нас опыт, есть объективная способность, действующая в нас действительность, которая может быть выражена в понятиях и формулах лишь после ее действия. Никто не станет утверждать, что закон причинности действовал в нас как осознанный принцип, когда мы толковали в соответствии с ним наши восприятия. Дело здесь обстоит так же, как в тех случаях, когда мы, пользуясь законом гравитации, переводим на меняющийся и неуверенный язык наших понятий действительность, которая, так сказать, ничего не знает об этом законе и в качестве таковой совершенно недоступна нам. Формула, в которой мы сознаем закон причинности, есть, аналогично каждому закону природы, лишь рефлектирующее толкование душевной действительности в нас, реально осуществляющей функцию образования опыта. Следовательно, эта последняя и есть действительно априорность, а не понятийный и известный нам закон причинности, который представляет собой лишь сломленное нашим сознанием отражение априорности, лишь ошибочное ее восприятие. Следовательно, мы совершенно точно знаем, что должна быть общезначимая априорность, для того чтобы существовало знание; однако это – чисто абстрактное и остающееся абстрактным знание, собственно, только постулат; ибо каковы отдельные содержания этой априорности, мы с такой же уверенностью знать не можем, напротив, мы наталкиваемся здесь на те же неопределенность и корригируемость, от которых априорность казалась освобожденной. Я не вижу удовлетворительного решения этой трудности; Кант ее, правда, обходит, полагая, что обладает критерием правильности и полноты форм познания в систематическом округлении. Он обнаруживает на путях, во многих случаях странных и непонятных, в немногих – убедительных, что нормы, образующие опыт, соответствуют формам логического суждения, и конструирует аналогично им 12 априорных понятий, которым, в свою очередь, соответствуют основоположения рассудка. Эти 12 категорий делятся на 4 класса с 3 категориями в каждом. Нас здесь интересуют не эти детали, а только принцип, согласно которому, если для симметричной, замкнутой в себе схемы найдены достаточные наполнения, тем самым дано доказательство правильности и достаточности этих наполнений. Слабость этого метода в настоящее время очевидна. Оставляя полностью в стороне всю вымученность и неверность в деталях, мы знаем, что округленность комплекса мыслей по нашим идеям симметрии и архитектоники ни в коем случае не является гарантией действительной истины или полноты этих мыслей, – при этом безразлично, является ли действительность, которую должна охватить и обрисовать система, внешней, или действительностью души. Но важнее, чем это весьма очевидное опровержение, мне представляется необходимость понять глубокое значение и тенденцию этой странной систематики.
В решении о ходе развития и окончательно удовлетворяющей форме нашего познания действуют два взаимоисключающих мотива, проходящих в борьбе, вытеснениях и компромиссах через историю духа; выбор между ними исходит, как и во всех последних интеллектуальных решениях, из инстинктов личности в целом, лежащих вне интеллектуальности. Их можно определить как систематическое и как прогрессивное влечение. Одно дозволяет нам удовлетвориться нашим образом мира и верить в его истину лишь постольку, поскольку все его единичные элементы образуют сплошную связь, построенную по единым принципам. Лишь в том случае, если, как это происходит в организме, каждая часть указывает на другую и таким образом из этих частей может возникнуть пребывающее во внутреннем равновесии целое, познание может считаться завершенным, ибо только в этом случае оно воспроизводит гармоническое единство и архитектоническую структуру мира. Конечно, это недостижимый идеал, который может быть лишь приближенно достигнут в самых общих чертах и в отдельных областях знания; решающим, однако, является, что это – идеал, который в качестве дефинитивной формы познания, обретает ли оно свое наполнение или нет, имеет значение систематической готовой округлости. Если здесь образ совершенного познания имеет форму круга, то другая тенденция отождествляет его с уходящей в бесконечность линией. Завершение образа при этой тенденции невозможно не только действительно, из-за человеческой слабости, но и в принципе. То ли потому, что сами явления бесконечно образуют новые комбинации и освобождают неизвестные дотоле силы, то ли потому, что отношение нашего духа к действительности адекватно выражает себя только в бесконечности увеличений и исправлений своих представлений, – во всяком случае внутренняя сущность познания состоит в том, что оно никогда и нигде не завершается, а симметричное завершение его построения является внутренним противоречием. Совершенно понятно, что первая точка зрения приемлема прежде всего для рационализма, вторая – для сенсуализма. Представление Канта о формируемом априорными понятиями опыте приводит и эти две потребности к поразительному синтезу. Мир, предстающий нам в чувственном опыте, правда, не система, он необозрим, и его познание уходит в бесконечность. Но дух, внутренняя структура которого предстает как обозримая, есть завершенное, систематическое единство. Мир обретает единение и прочный смысл благодаря тому, что самые общие принципы, с помощью которых наш рассудок формирует впечатления от мира, создавая опыт, законы, которые он миру предписывает, образуют внутренне сбалансированную архитектоническую систему, систему нашего духа. Познание же действительности похоже на удлиняемую до бесконечности линию, так как она происходит не только из единой глубины духа, но есть продукт ее и бесконечно меняющихся, и увеличивающихся впечатлений от действительности. А продукт, созданный константным фактором и изменяющимся фактором, должен быть и сам меняющимся. Тем самым природа и опыт сохраняют всю свою безграничность, действительность в ее совокупности свободна от всякой ограничивающей ее систематики. И тем не менее носителем целого служит система способностей познания, структура которой охватывает всю неизмеримость отдельных явлений, ибо она образует опытные данные о них. Влечение к системе, которое обретало в объективной действительности обманчивое удовлетворение, отступило в дух и предоставило действительность влечению к продвижению.
Гениальность этого решения свидетельствует о всем величии духовно-исторической позиции Канта: его точка опоры – объективно предлежащее познание; он его расчленяет; пока не находит для конституирующих его элементов то равное оправдание, посредством которого он устраняет односторонность созданных чисто субъективными влечениями образов мира. И все-таки теперь мы не примем это решение. Замкнутость системы даже в ограничении духом для нас чрезмерна: мы полагаем, что и дух следует ввести в поток развития. Пусть в каждый данный момент априорные нормы и господствуют над опытом, – почему бы и этим нормам, которые, образуя наше познание природы, и сами, если рассматривать их с другой стороны, суть действительность природы, не оказаться в развитии, постоянное течение которого ни на одно мгновение не может достигнуть завершения в виде системы? И если познание развития как постоянной судьбы вещей образует логический круг, если само познание все время развивается, то это один из тех неизбежных фундаментальных кругов, в которых открывается относительный характер нашего духовного существования.
С отпадением системной связи, в которой каждая часть доказывает свою истинность тем, что дополняет другие части в создании единого целого, отпадает одновременно и единственное доказательство того, что априорные способности вошли в научное сознание с несомненностью и полнотой, свойственными их реальному действию. Оказывается, что Кант с недостаточным основанием перенес всеобщность и необходимость, которыми структура нашего духа обусловливает наш опыт, на научные принципы; на этих принципах мы впоследствии, безусловно часто неполно и ошибочно, формулируем эти условия, значимости которых данные принципы могут соответствовать лишь приближенно в бесконечности. Невзирая на это фундаментальное отклонение современного мышления от учения Канта, его открытие, согласно которому наши опытные данные обусловлены сверхчувственными, как бы привнесенными нашим духом предпосылками, еще отнюдь не исчерпало свою плодотворность. Кант сам применял его только в области естествознания; ибо, с одной стороны, его оригинальное мышление было направлено на природу, с другой – душевная жизнь как таковая и все историческое интересовало его лишь с точки зрения нравственной ценности и само по себе не составляло для него предмет собственного исследования. А между тем весь психологический и исторический мир в такой же степени нуждался в проверке с точки зрения его априорных предпосылок. Тогда бы мы узнали, что именуемое нами историческими фактами столь же не отражает непосредственное переживание, как естественно-научный факт не содержит чистое чувственное впечатление, что сообщение свидетеля, так же как воспроизведенное в изложении событие, представляет собой формирование данного материала по эмоциональным, интеллектуальным, политическим, психологическим и этическим категориям. И это – не требующий устранения недостаток, не искажение, а необходимое условие, при котором сырой материал исторического бытия только и может обрести понятный и осмысленный образ в нашем духе. Также обстоит дело и в области права, в понимании искусства, в психологии, в религии. Опытное знание во всех этих сферах отнюдь не есть то, чем оно может казаться, если не помнить о Канте, – не есть принятие данного, верное отражение того, что действительность предлагает нашему сознанию; напротив, то, что должно стать познанием, должно быть формировано нами в таковое, то, что должно стать предметом опыта, зависит от форм опыта, с которыми наш дух подступает как со своим изначальным владением к действительности. Или точнее: наш дух не имеет эти формы, он есть они.
В трактовке Канта это понятие связано с дальнейшей серьезной трудностью. Положения геометрии суть абстрактные формулы для тех энергий, которые превращают наши чувственные впечатления в пространственные образы. Однако неуверенность, изменения, иллюзии присутствуют и здесь, например, у детей или при необычных внешних или физиологических обстоятельствах. В другой априорной форме, в причинности, совершенно однозначны случаи, когда причинность не действует, когда мы не по доброй воле (а иногда и по доброй воле) совершенно не мыслим по закону причинности. Как же это сочетается со всеобщностью и необходимостью форм нашего мышления и с тем, что наш дух априорно содержит их в себе и поэтому неизбежно придает их своим отдельным содержаниям? Кант ответил бы на это очень просто: априорность ведь есть лишь априорность познания, там, где мы ее не применяем, мы не познаем, а совершаем лишь какие-либо душевные процессы, которые не суть опыт. То, что названные формы суть энергии, имманентные нашему духу, не означает, что они должны беспрерывно функционировать; они, подобно всем потенциям бытия, выступают в чистой и беспрепятственной деятельности лишь при совершенно определенных условиях, а при других отклоняются и искажаются. Априорность также не утрачивает своей закономерной значимости вследствие ее недостаточного применения, как и вследствие действия законов неевклидовой геометрии, ибо она – только закон опыта, а не любого душевного образования.