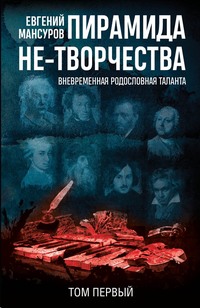Полная версия
Благословение и проклятие инстинкта творчества
Дать реалистическое объяснение этому феномену, вероятно, невозможно. «В этом состоянии, – комментирует доктор психологических наук Владимир Козлов, – доминирует мотивационно-эмоциональная сфера мышления, а не рационально-логический интеллект и доминирует духовность как направленность к высшим силам личности… Не человек, не личность творит, а через человека происходит творчество. И этот процесс не только озарён таинством, мистерией творчества, но и наполнен переживанием реализации своей миссии, высшего смысла бытия в мире, исполнением предназначения» (из книги «Психология творчества. Свет, сумерки и тёмная ночь души», Россия, 2009 г.).
Однако переживание, связанное с реализацией своей миссии, может сопровождаться разочарованием, значительно затрудняющим «исполнение предназначения».
На рубежах достигаемого, когда угасает инерция поступательного движения вперёд, искатель и исследователь, он же художник-творец, замечает прерывность процесса познания, мистерии творчества.
Вот мысль уже облачена в слово (формулу, картину, скульптуру, симфонию), и слово это (формула, картина, скульптура, симфония) кажется новым. И вдруг возникает ощущение неполноты кондиции, «отсыл» слова к чувству чего-то не до конца высказанного, а в изречённой мысли ускользает её первоначальный смысл. В подтексте слов открывается то, что не говорилось, но скрыто значилось. Можно назвать это множественностью смысла, скрытого в бессилии множественности слов. И только умение видеть обратную сторону вещей, «выворачивать наружу их внутреннюю жизнь» (И. Гёте), знаменует феномен подтекста, когда перо гения (его кисть, резец, смычок) более велико и объёмно, нежели он сам:
• Генрих Гейне (1797–1856) говорит о вечности пера, создающего бессмертные книги: «Перо гения всегда больше самого гения, оно всегда достигает гораздо дальше, чем это предполагалось в его замыслах, обусловленных временем» (из «Введения к «Дон-Кихоту», Германия, 1831 г.);
• «В художнике, есть нечто поумнее головы и вещам, подлинно достойным познания, трудно научиться» (литератор Э. Голлербах, СССР, 1926 г.).
Значительность же Автора состоит, пожалуй, в том, что он всё время «утончает» своё познание и мысль его, «неуклонно развиваясь, бесконечно углубляется от явления к сущности – от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т. д. без конца» (В. Ленин).
Что вообще выплавляется в горниле творческого поиска, сколько слоёв шлака приходится удалить и как находится то единственное нужное слово, которое вдруг объясняет всё? Нет, это не может быть концом поиска, но только свидетельством прохождения очередного цикла в периодической системе трансформаций «чувство – образ – мысль – слово».
Понятно, что таинство рождения слова есть таинство рождения мысли. Таинство превращения мысли из образа не разгадано и по сей день. Всегда остаётся высший смысл, сущность следующего порядка, что так и не удаётся постичь. «Кажется, что всё продумано, все известные философские системы уяснены, что-то удалось решить самому. Но удивление перед грандиозностью неведомого, чувство однократности, скоротечности индивидуального бытия остаётся. Больше всего мучает то, что не удалось существенно изменить то, к изменению чего стремился всю жизнь. И даже глубокая вера, что изменения неизбежно грядут, не всегда приносит облегчение, когда приходится оставлять мир хотя и изменившимся, но преисполненным зла, как и в то время, когда ты впервые начал его осознавать» (Н. Гончаренко «Гений в искусстве и науке», СССР, 1991 г.).
Не оттого ли Исаак Ньютон (1643–1727) так уничижительно считал себя мальчиком, играющим в гладкие камушки на берегу океана Истины, совершенно закрытого перед ним? А Блез Паскаль (1623–1662) так решительно отказывал человеческой мысли в попытке охватить необъятное ложе природы и так обречённо сравнивал Человека с мыслящим, но гнущимся под любым порывом ветра тростником?
Прошли столетия Академик Владимир Вернадский (1863–1945), разделяя участь всех художников-творцов, признавался в своей неспособности разгадать всю загадку целиком: «Мы знаем только малую часть природы, только маленькую частичку этой непонятной, неясной, всеобъемлющей загадки…, и потому у меня являются дни отчаяния, дни, когда я говорю, что, может быть, я никуда не гожусь, когда я вполне и мучительно больно сознаю свою неспособность, своё неумение и своё ничтожество…» (из сборника «Страницы автобиографии», сов. изд. 1989 г.).
Не случайно, Максим Горький (1868–1936), осознавая трагизм «предела высшего усилия», к концу жизни размышлял о том, что не хватает сил «для переплава всего сделанного в какие-то высшие, более долговечные ценности».
Судьба, устами старика Эммануила Канта (1724–1804), казалось бы, выносит роду Homo Sapiens окончательный приговор: «Мы со всем своим разумом не можем выйти за пределы опыта».
В таком уничижении сокрыто не высокое «моралите» (перед кем оправдываться или казаться лучше, чем есть, в исповеди души?), но трепет перед бездной незнаемого.
А может быть, бросить вызов Року, «забыть» и о необозримости пути, и о незавершённости познания, и о неисправимости своего прошлого? Ведь тот же В. Вернадский признавал, что «всё, что мы ни знаем, мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазёров и учёных поэтов».
В своих мечтах учёный-поэт «забывает» о пределах, положенных научному знанию. Но, вероятно, он вспоминает о чём-то другом. В творческих дерзаниях нет ничего невозможного! В ярком пламени вдохновения рождаются образы, символы оригинальных идей. Но тот же опыт, за пределы которого мы не можем выйти, свидетельствует о том, что искатель может остановиться в одном шаге от открытия универсальной формулы, которая уже существует до него. Остаётся последний решающий шаг, чтобы выйти на новую грань познания! Хватит ли на это сил у «мыслящего тростника»?
Надежда умирает последней! Разве аутсайдер, начинающий бег с «низкого старта», не может рассчитывать на силу своих ног, равно, как и фаворит соревнования? И разве фаворит соревнования не начинал когда-то с «низкого старта», имея смутное представление о силе своих ног?
И, наконец, разве аутсайдер, становящийся фаворитом, не прыгает выше головы, если, как в стоп-кадровом просмотре, восстановит тот, начальный фрагмент своего первого старта? Монтаж стоп-кадров – того первого и последнего, с лавровым венком на плечах – докажет со всей очевидностью (как научный опыт в пределах возможного), что это «две разные истории без общих точек соприкосновения». Убедительное достижение цели представляется не иначе, как следование по прямой. Результат, а не цена победы, освещает путь гения от триумфа к триумфу. Как будто и не было этого рывка из аутсайдеров – в фавориты. Как будто весь стадион заранее предрешил, кто достоин лавров победителя, а кто должен прийти к финишу последним. Самое, быть может, страшное – это клеймо вечного аутсайдера по приговору толпы…
Настанет ли в судьбе художника-творца этот краткий миг торжества, венчающий его долгий тернистый путь – от мук невысказанного чувства предоткрытия к озарению истинного? Имеются ли объективные предпосылки, ускоряющие поисковый процесс? Существуют ли «приводные механизмы», с помощью которых художник-творец может «войти в инсайт»?
Американский изотерик, Бенджамин Уокер указывает на последовательный характер этого, по словам Сократа (ок. 470–399 до н. э.), «божественного умопомрачения»:
а) мистики, музыканты, писатели и прочие часто описывают эту силу, как диктат что они должны написать;
б) во время этих не поддающихся контролю вдохновений на них обрушиваются каскады идей, иногда даже точные слова и фразы, целые поэмы, длинные обрывки прозы, замыслы романов (из книги «За пределами тела. Человеческий двойник и астральные планы», США, 1972 г.).
Что значит, собственно говоря, «каскад идей»? Рождены ли они в лабиринтах человеческого мозга или «внедряются» в него со стороны, по сверхтонким каналам информации? Очень сомнительно, чтобы это был готовый «продукт», адаптированный к среде и сразу годный для интеллектуального употребления. «Известно, – пишет русский гений Фёдор Достоевский(/1821 – 1881), – что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный…» Гений позднего Средневековья Алигьери Данте (1265–1321) попытался, однако, перевести:
И тут в мой разум грянул блеск с высот,Неся свершенье всех его усилий… —но остановился перед тайной умопостижения того перелива себя в искусстве, когда «образы возникают стихийным наплывом, а мысль мчится вперёд со световой скоростью, опережая возможность поймать её и пристегнуть к бумаге» (М. Шагинян, 1982 г.).
Современные психологи характеризуют это состояние как инсайт (от англ. insight – догадка; термин предложен В. Келером), однако его академическое определение появилось только в последней трети 20-го столетия:
• «Инсайт – осознание найденной идеи» (из книги В. Ротенберга и В. Аршавского «Поисковая активность и адаптация», СССР, 1984 г.);
• «Инсайт – это способ видения невидимого, невоспринимаемого, не поддающегося анализу и вычислению масса вещей, которые не обнаруживаются с ясностью нашими чувствами и нашим сознанием» (из книги И. Гарина «Воскрешение духа», Россия, 1992 г.);
• «Инсайт – мгновенное и чёткое научение или понимание, имеющиеся без явно выраженного «опыта жизни», определяющегося путём проб и ошибок» (из «Философского энциклопедического словаря», Россия, 2007 г.).
Примеры подобных «мгновенных озарений» (без явно выраженного «опыта жизни») – весьма многочисленны. Можно создать даже гигантский «банк данных», вмещающий информацию о людях разных эпох, разного жизненного опыта, разных темпераментов, взглядов и профессий. Но это будет один класс – «Homo Sapiens интуитивно мыслящий», представителям которого даётся удивительный дар восприятия «посторонней подсказки». Они и воспринимают его как дар Небес, в эмоциональном волнении не опасаясь дать субъективную оценку: «как вспышка молнии», «вспышка горючего вещества», «ливень идей», «стихи искрами посыпались», «озарение» «некая предвзятая душой информация», «вдруг что-то толкает внезапно», «голос свыше», «что-то в мозгах переворачивается», «мгновенная удача ума», «прозрение», «дичь сражённая метким выстрелом».
Кстати, последнее определение принадлежит «нарушителю всех правил» Сальвадору Дали (1904–1989). Он так же бился над загадкой тысячелетий, как древнегреческий философ Филон (ок. 20 до н. э. – ок. 50 н. э.): «Все озарения мгновенны, и это одно из таинств мира».
А дальше – тишина… Феномен изучается, классифицируется, анализируется. «Голыми руками» его не взять. Качество «инструментария», которым проводится анализ, вызывает острые споры, подобные тем, что велись на заре фрейдовского психоанализа. А что мы знаем наверняка?
Академик Бонифатий Кедров (1903–1985) отмечает, что при всей «хаотичности» процесса предоткрытия его кульминация отнюдь не случайна: «Озарения, которые выглядят на первый взгляд случайными и неожиданными, посещают далеко не случайных людей» (из статьи «Бегство от привычного», СССР, 1973 г.).
В феномене «мыслительной скорострельности» французский математик Анри Пуанкаре (1854–1912) видел плодотворное «сотрудничество» сознательного и подсознательного.
Американский психоаналитик Ролло Мэй (1909–1994) также изучал «жизнь души», но рассматривал взаимодействие её невидимых сил не как их сотрудничество, а как их соперничество. «Озарение прорывается в сознание вопреки рациональным размышлениям, – пишет он в сборнике «Мужество творить», российск. изд. 2008 г. – То, что мы называем бессознательным, прорывается через барьеры сознательных установок. Бессознательная сторона личности, которая до этого времени подавлялась, неожиданно проявляется и начинает господствовать».
Если душа гения действительно переживает революционные трансформации, он должен испытывать и «жар души» и «буйство воображения» – его эмоциональное состояние должно быть «выше среднестатистической температуры по госпиталю». Однако благо ли – переизбыток чувств?
Французский «эстетствующий» романист Эдмон Гонкур (1822–1896) предостерегал с серьезностью писателя-реалиста: «Те, кто творит одним воображением, не должны жить. Необходима отрешённость от житейских забот… Люди, отдающие слишком много сил на страсть или на суету нервного существования, не создадут произведений… Необходимы размеренные, ничем невозмутимые, успокоенные дни… сосредоточенность «в ночном колпаке» для того, чтобы породить великое, взволнованное, драматическое…» (из Дневника, Франция, 17 мая 1857 г.).
Э. Гонкур как будто не заметил, что высказал парадоксальную мысль. И он же рискнул дать «универсальный» совет: «Совершенство в искусстве – это дозировка в правильной пропорции реального и созданного воображением»(из Дневника, Франция, 24 июля 1885 г.).
Так существуют ли «механизмы», способные сдерживать творческий процесс, и объективные предпосылки, его ускоряющие?
Из ответов А.Н. Толстого на анкету «Как вы пишите?», СССР, 1929 г.По мысли А. Н. Толстого (1883–1945), автора научно-фантастического романа «Гиперболоид инженера Гарина» (СССР, 1927 г.), для достижения оптимального результата «творец» должен быть представлен сразу в трёх ипостасях: художник – мыслитель – критик, однако «функциональная пирамида», выстроенная им по степени значимости и влияния на результат (открытие в науке или произведение искусства), парадоксальным образом не соответствует значительности вклада каждой «ипостаси» в сам процесс творчества:
«Одной из этих ипостасей недостаточно», – справедливо замечает А. Н. Толстой. Однако как функционирует эта «пирамида» при взаимодействии всех трёх элементов – уму не постижимо, ибо «критик» должен быть тираном по отношению к «мыслителю», а «мыслитель» – ментором в общении с «художником». И что тогда есть свободный художник, начало всех творческих начал? Раб перед «критиком» и ученик перед «мыслителем»? Если же мы, руководствуясь духом свободного творчества, попытаемся создать пирамиду «конусом вниз», то «критик», с сообщённым весом «мыслителя», в миг раздавит «художника»! А ведь типичная – конусом вверх – «пирамида творчества» благополучно функционирует, соответствуя всем законам устойчивых конструкций!
Остаётся предположить, что функциональное взаимодействие между «художником», «мыслителем» и «критиком» не имеет, как в теории А. Н. Толстого, столь жёсткого «каркаса». Вернее, он необходим только при взаимодействии «снизу – вверх», когда в роли диктатора выступает «критик» – организатор всех побед. Согласно модели психолога В. Н. Пушкина (1931–1979), осуществление рациональной и сознательно управляемой деятельности («фаза № 1») характерно для интеллектуального процесса, где активная роль принадлежит «сознанию», а обслугой, ответчиком на волевой импульс выступает «бессознательное»:
Из книги В. Дружинина «Психология общих способностей», 3-е изд. Петербург, 2007 г.А вот обратная связь, когда творческие импульсы, какие-то оригинальные идеи исходят от «художника», организуется на принципах работы гибких, не опосредованных коммуникаций. «Стальной каркас» фазы № 1 как-то стушёвывается на второй план, и «художник», освобождённый от груза несущих конструкций (ранжира распределительных ролей), осуществляет непосредственную, можно сказать, эксклюзивную связь с «мыслителем» и «критиком», будучи инициативной стороной!
Таким образом, «пирамида творчества» функционирует по принципу работы двухфазового генератора, где самые удивительные («нелинейные») метаморфозы случаются при вхождении в «фазу № 2»:
Подчеркнём: при взаимодействии «сверху – вниз» каркас «пирамиды» остаётся прежним, однако в фазе творческого поиска важнейшую роль играет потенциал (гений, талант или выдающиеся способности) «художника». Всё зависит от его творческой энергии, способной при накале гения перераспределить функции «пирамиды» образно говоря, «конусом вниз» (или «сверху – вниз»)! Здесь взаимодействие «сознания» с «бессознательным» можно характеризовать как творческий процесс в «фазе № 2», где, согласно модели В. Н. Пушкина, «бессознательный творческий субъект активно порождает продукт и представляет его сознанию»:
Из книги В. Дружинина «Психология общих способностей», 3-е изд., С-Пб., 2007 г.Однако и здесь нужна энергия заблуждения («когда человек работает сам, не боится создавать своё: сперва сделай, а потом посмотрим!..» – В. Шкловский, 1977 г.), чтобы, прислушиваясь к голосу рассудка, не проявить «благоразумие» и не остановиться на полпути – на «фазе № 1», когда «прорабом перестройки» и «организатором всех побед» остаётся критик.
Русский поэт-символист Вячеслав Иванов /1866 – 1949/ говорит о необходимости проявления фантазии как о самом главном факторе на начальном этапе реализации замысла: «Необходимо устранить всё своё волевое… устранить лишнюю плоть, лишние атрибуты. Успех зависит от веры в замысел, что даёт наивный, то есть непосредственный стиль… Если художник не может питать замысел, тогда получается сухое произведение» (из конспекта лекций, прочитанных студентам Бакинского университета, Азербайджан, 1921–1922 гг.).
Последнее предостережение о возможности «сухосочности замысла» относится, разумеется, к тому обстоятельству, что «критик» сразу, без притока новых идей, стремится «уразуметь замысел всего произведения».
«Чисто эмпирическое накопление фактов (когда «критик» «топит свой замысел во всём привнесённом» – В. Иванов, 1922 г.) уродует мысли и подавляет ум», – предупреждает Карл Юнг (1875–1961) в исследовании «Психологические типы» (Швейцария, 1924 г.).
Однако к ущербности произведения приводит и диспропорция на следящем этапе: трансформации начальной идеи в технику исполнения. Когда «аполлонийский сон» чрезвычайно разбухает, «художник» как бы топит «чистую идею» в фантасмагорических подробностях, а «критик», несмотря на наступивший период объективизации, «не рассматривает произведение с точки зрения его совершенства» (Вяч. Иванов, 1922 г.). Работник народного образования Е. Белькинд справедливо указывает, что «отсутствие воли касается только самых сокровенных моментов творчества (т. е. на первом этапе творчества, в пирамиде творчества это «фаза № 2». – Е. М.); в процессе обработки замысла («фазы № 1 и № 3. – Е. М.) поэту понадобится не только воля, но и знание, «логическая просвеченность» (взаимодействие «критика» и «мыслителя». – Е. М.)…» (СССР, 1980 г.).
Другими словами, каждому этапу следует отдавать свой приоритет. «И только, если все вышеизложенные требования исполнены, мы имеем строгое, классическое искусство.» (Вяч. Иванов, 1922 г.)
В некоторых случаях функции «художника» и «критика» могут быть до определённой степени размыты или, наоборот, сознательно и чётко определены «со смещением» – в зависимости от приоритета идей, который определяет сам художник-творец. Так для Эльдара Рязанова (р. 1927) художническим занятием оставалось писание, а профессиональная деятельность режиссёра – критикой идей, хотя, разумеется, и эта «главная» деятельность оставалась в рамках творческого процесса. Принцип же разделения функций здесь несколько видоизменяется (от «художественного» в сторону «критики») в силу специфики самой профессии, когда режиссёр старается соорганизовать весь производственный процесс. Но он же понимает, конечно, и значение «аполлонийского сна», способного вывести из строя даже хорошо отлаженный механизм. Роли можно «сместить», но их трудно «поменять местами»!
«Конечно, где-то в тайниках души во мне гнездится кинорежиссёр, – признаётся Эльдар Рязанов, – но он во время писательских занятий находится в глубоком подполье, дремлет, пребывает в зимней спячке. Когда же я запускаюсь в производство, то загоняю в подполье писателя, а режиссёр без страха выползает на первый план… Причём на перестройку мне требуется определённый временной промежуток» (из книги «Грустное лицо комедии», СССР, 1977 г.).
О той же метаморфозе, когда «художника» сменяет «критик», свидетельствовал и JI. Рыбак, внимательно наблюдавший за работой кинорежиссёра Юлия Райзмана (1903–1994) на съёмочной площадке: «Райзман, работающий над сценарием, и Райзман, работающий на съёмочной площадке, – это разные состояния, разные этапы, хоть связаны они накрепко» (из книги «В кадре – режиссёр», СССР, 1974 г.).
О необходимости корректировать творческие идеи, заложенные в сценарии, свидетельствовали также Ф. Феллини, Г. Козинцев, В. Мотыль, П. Пазолини, С. Эйзенштейн, А. Довженко. Причём сам этот процесс не доводится до ума как некое сознательное решение, а осуществляется скорее интуитивно, как некая потребность «от неполноты кондиций», которая требует своего удовлетворения. Вот тогда «режиссёр», без предварительного уведомления, вылезает на первый план! Примем во внимание, что на эту трансформацию «требуется определённое время». Но осознание необходимости «перестройки» приходит едва ли не одновременно с первой творческой идеей!
Если «критик» недостаточно активен на стадии разработки выдвинутых идей (стадии № 1 и № 3 в работе «пирамиды творчества»), если «художник» не хочет уступать ведущую роль, приличествующую ему в поисковой активности (на стадии № 2), то невозможны в принципе: а) критический анализ и б) приведение в упорядоченную систему результатов активности образного мышления.
Повторим: стадия «передачи власти» здесь просто необходима! «Без этого этапа, – отмечает доктор медицинских наук В. Ротенберг, – творческий акт останется, что называется, «вещью в себе», будет представлять хаотическое разнонаправленное движение отрывочных идей и образов, и соответственно, не будет иметь почти никакого социального значения» (из статьи «Психофизиологические аспекты изучения творчества», СССР, 1982 г.).
«Вербальное мышление» – эти «пятна неопределённой формы», эти «моллюски» вместо формул и это «сырое тесто» вместо конкретного замысла – следует облечь в нормальные, «удобоваримые» слова и знаки, чтобы сделать открытие (творение искусства) достоянием читателя/слушателя/зрителя. «Критик» как раз и обеспечит взаимодействие двух типов мышлений: вербального (образного) и последовательного (логического).
А что бывает, когда художник-творец намеревается совместить «художника» и «критика» в одном лице? Психотерапевт Владимир Леви, чтобы объяснить абсурдность «одновременного действия», прибегает к метафоре: «Одного критика упрекнули, будто он занимается критикой, поскольку не может творить, на что он ответил: «Да, я не умею готовить яичницу, но это не мешает мне разбираться в её вкусе». Действительно, нельзя одновременно жарить яичницу и есть её: результатом может быть только пустая сковорода. Это можно было бы, вероятно, назвать законом одномерности мышления. Можно быть и творцом, и собственным критиком, быстро и сложно чередуя эти процессы, как и происходит на высших уровнях творчества (вспомним черновики Пушкина), но нельзя делать и то, и другое одновременно» (из книги «Охота за мыслью (Заметки психиатра)», СССР, 1971 г.).
Таким образом, успех творческой деятельности зависит, по мнению психологов, от уравновешенности и гармонии двух начал (двух фаз «функциональной пирамиды») – творческого мышления и критического анализа при общей высокой мотивации достижения цели.
Сам исследователь последовательно выступает и в роли критика, и в роли творца. И в каждой фазе творческого поиска он должен обойти много «подводных камней»! Выйдя же из своей творческой мастерской, он сталкивается с препятствиями иного рода – противодействием «общества большинства». Контраст «двух сред» очевиден, любое взаимодействие может стать поводом для конфронтации. Мало сказать, что художник творит один, погружаясь в океан неисследованного. Он сам инициатор общественного возмущения, когда, демонстративно и гордо, бросает вызов, нарушая общественные табу!
«Многие трудности, с которыми художник сталкивается в обществе, исходят от него самого, – подчёркивает О. Бальзак, – ибо всякое своеобразие коробит толпу, стесняет и раздражает её» (из статьи «О художниках», Франция, 1830 г.).
Оставим в стороне «нездешний дар» художника-творца. Поговорим о его личных недостатках, способствующих конфронтации с «обществом большинства».
На общественном «полюсе» его непризнания – черты самые непривлекательные: высокомерие, двоедушие, эгоизм, грубость, неприспособленность в быту… «Понемногу сами «служители искусства» привыкли оправдывать и безволие, и незрелость свою – именно причастностью к «искусству», – делает нелицеприятное замечание Зинаида Гиппиус (1869–1945), сама немало способствовавшая созданию петербургской «литературной богемы«(из очерка «Мой лунный друг. О Блоке», Франция, 1922 г.).