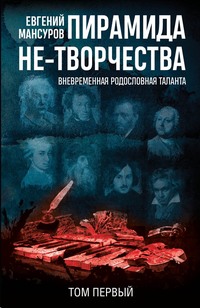Полная версия
Благословение и проклятие инстинкта творчества
Но если всё предопределено – и даже без нашего осознания, – то каким же образом? «Как догадка превращается в прочно установленную научную истину?» (А. Мигдал, 1983 г.). «В чём секрет удачи великих изобретателей? В чём их сила? Чем они брали?» (В. Орлов, 1964 г.).
Почему Человек смеет так дерзко, со смелостью самонадеянной, утверждать: «Наши теории всё больше окрашены светом абсолютной истины; развитие науки лишь уточнит их и очертит круг охватываемых ими явлений» (Е. Парнов, 1967 г.)? Почему исследователь вдруг знает результат до того, как он приступит к опытам? Почему художник вдруг видит картину до того, как он наложит на холст первый мазок? Почему, наконец, писатель вдруг находит своих героев до того, как он взял в руки перо и придвинул к себе лист бумаги?
Частности не проясняют общее. Непонятным остаётся сам «механизм» творчества. Каким образом Homo sapiens «попадает» на своё информационное поле? И как он делает свой следующий шаг, чтобы реализовать потенциал, заложенный в «плане» вселенской эволюции?
«Гении обладают редкой способностью не только «догадываться» и «думать», но знать и верить, – полагал английский историк Томас Карлейль (1795–1881). – В то время как другие, ослеплённые одной наружной стороной вещей, бесцельно носились по великой ярмарке жизни, они рассматривали сущность вещей и шли вперёд как люди, имеющие перед глазами путеводную звезду и ступающие по надёжным тропам» (из книги «Люди и герои», Великобритания, 1840 г.).
«Такие люди предупреждают своих современников, – пишет старший современник Карлейля английский литератор Исаак Д’Израэли (1766–1848) – они сознают свою творческую способность прежде, чем получают в этом признание со стороны медлительной публики. Эти люди стоят как будто на высотах Олимпа, и солнце светит для них в то время, когда ещё на равнинах оно не всходило» (из трактата «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1795 г.).
Не на равнине, а на высотах Олимпа; не на ярмарке жизни, а на предначертанной стезе. И впереди своих современников. Да вместе с ними он просто не может! Не отвечая законам «общества большинства», художник-творец реализует своё субъективное устремление. Нетерпение таланта «выламывает» его из обычной среды. Призвание гения даёт ему внутренний импульс не к приумножению материальных благ, но к постижению гармонии мира. Способность творчества – это и новый взгляд на мир, и «сильная, несгибаемая, всегда пульсирующая воля, приводящая в действие все природные задатки, приобретённые и развитые навыки личности» (Н. Гончаренко, 1991 г.).
Но из каких глубин или высот пред-сознания художник-творец черпает уверенность в своём предназначении, почему он так спокоен, едва ступив на избранную стезю, когда сама судьба сулит ему тернистый путь пророка-изгнанника, когда обрекает его на ненависть толпы, ослеплённой одной наружной стороной вещей? «Один против всех»! И только, пожалуй, одно предвестие избранничества: «Я знаю, что могу творить!»
Уверенность, «основанная ни на чём», действительно, шокирует всех благоразумно мыслящих, привыкших основывать свои утверждения на жизненном опыте. Говоря же, что природа его «намного выше обыкновенной» художник-творец не только высказывает непоколебимую уверенность «в справедливый суд будущего», но и делает это с «пугающей воинственностью, дразнящей, задиристой агрессивностью» (Е. Евтушенко). И чтобы вконец уязвить современников, остающихся в своём времени уходящем, художник-творец словно бросает им вызов: «Крылья моего духа поднимут меня высоко над миром» (Т. Кампанелла); «Я вижу, что век мой ещё не дозрел до понятия моего творения» (Ш. Монтескьё); «Природа моя приближается к бессмертным духам» (Дж. Кардано); «Знаю и твёрдо убеждён, что имя моё займёт в истории несколько страниц!» (К. Рылеев); «Моя душа видит великие вещи, неведомые никому» (Я. Гельмонт); «Клянусь дьяволом, я высосу некоторое количество жизненной крови из загадок Вселенной!» (А. Байрон-Кинг); «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!.. Меня хватит на 150 миллионов жизней…» (М. Цветаева); «Будущее принадлежит декадентству… будущее найдёт достойного вождя. А этим вождём буду Я! Да, Я!» (В. Брюсов).
Согласимся, что проявление «вождизма» есть крайнее выражение «нетерпения творчества». Однако «дар нездешний» удивляет, прежде всего, самого художника-творца. Любопытно, что даже в минуты полного торжества Наполеон I (1769–1821) не переставал думать о возмездии! Сила, подталкивавшая его к какой-то неведомой цели, казалась ему не только охранительной, но и исполняющей волю Рока. Потому и цель была неведома. Он знал, что неотвратимо стремится к «неведомой цели». «Когда я её достигну, и моя миссия будет выполнена, – говорил этот властелин полумира, – достаточно будет малейших усилий, чтобы сразить меня».
Художник-творец готов заменить меч на перо или кисть, чтобы так же неотвратимо подняться в своей области во весь рост, почувствовать на себе печать гениальности и свершить грандиозное дело наполеоновских масштабов.
«Смелее! Невзирая на все слабости телесные, мой гений восторжествует!» – записывает в своем дневнике 25-летний Людвиг ван Бетховен (1770–1827). Накануне своего 25-летия Николай Гоголь (1809–1852) чувствует великую, торжественную минуту: «Нет, это не мечта… Я совершу… Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле Божество!»
Действительно, что, кроме Божества («Божественной Музы») может поднять до горних вершин? В экстазе творчества туда хочется попасть любой ценой, воздать хвалу любым богам, какие только способны «отверзнуть вещие зеницы». И даже гений (способность к творчеству, но ещё не сам процесс) иногда хочется «обменять на путеводную звезду в тумане», о чём просил Валерий Брюсов (1873–1924), рано сгоревший в нетерпении своего таланта.
Сальвадор Дали (1904–1989) ставил вопрос ребром: «Разве не предназначен я самой судьбой свершать чудеса, да или нет?» – и утверждал, что плод дьявольских сюрреалистических экспериментов начального периода его жизни «вдохновлён самим Святым Духом» («Дневник одного гения», Испания, 1964 г.). Логика творческого человека неисповедима. Вспомним, как А. Байрон-Кинг, дочь поэта-классика и первый программист ещё докомпьютерной эры, клялась дьяволом, что найдёт законы Божественного мироустройства! Здесь в одном творческом процессе смешано всё – и «божеское», и «дьявольское» начало. А может быть то и другое необходимо художнику-творцу:
а) даёт ему чудесное прозрение среди горных вершин в минуты альтруистического по своей природе просветления;
б) искусом близкой цели манит в бездну, когда «дар нездешний» уже не отделим от гордыни ума.
Да, мало одних способностей. Испытание творчеством не проходят даже те, у кого они имеются. Сквозь «сито отбора» проходит только художник-творец. Если бы он, гонимый и отверженный, мог выбирать, то, возможно, пошёл бы по другому пути. Но это был бы случайный шанс, которого судьба ему не даёт. «В биографии любой, истинно великой личности, – отмечает классик биографического романа немецкий писатель Стефан Цвейг (1881–1942), – можно увидеть, как судьба – в юности ли, в зрелые ли годы – хватает этого человека, вырывает из его угла, из безопасного места, в котором тот скрывался, и швыряет, словно волан, куда-то в неизвестность. Все эти люди претерпели подобный крутой поворот, подобный побег, иногда, казалось бы, по своей воле, в действительности же всегда по воле судьбы – побег из ограниченности, из привычного состояния, отрываясь от корней… У всех великих людей было подобное неожиданное бегство из собственного буржуазного уюта, словно из темницы, все эти внезапные ставки на карту всего своего существования ради сильного, вызванного потребностью, заложенной в подсознании человека, – и какого мудрого! – поступка, который гонит художника в вечно далёкое, откуда он увидит время и мир, словно с далёкой звезды» (из эссе «Жизнь Поля Верлена», Германия, 1924 г.).
На каких высотах Олимпа, в каком вечно-далёком он ощущает себя, когда начинает творить? Каким видит время и мир со своей далёкой звезды? Что он откладывает на будущее, а что стремится сделать «здесь и сейчас», как будто его эпоха не может ждать лучших времён? Как он сам приближает эти лучшие времена, чувствуя в себе нетерпение «дара нездешнего»?
Блок информации первый:
«Мир, видимый со своей далёкой звезды…»
1. «Моя вера в справедливый суд будущего непоколебима…»
Учёные: астрономы, космисты, физики,
зоологи, естествоиспытатели
• Тридцать лет не решался Николай Коперник (1473–1543) обнародовать главный труд своей жизни «Об обращениях небесных сфер» (1543 г.), но в предисловии выразил твёрдую уверенность в признательности потомков: «Чем нелепее кажется большинству моё учение о движении Земли в настоящую минуту, тем сильнее будет удивление и благодарность, когда вследствие издания моей книги увидят, как всякая тень нелепости устраняется наияснейшими доказательствами…»;
• Фрэнсиса Бэкона (1561–1656) не поняли и не оценили на родине: репутацию, но не славу, доставили ему его «История Генриха VII» и его «Опыты»; и только спустя много времени по смерти автора этих сочинений, английские писатели решились признать его авторитет и в науке… Ф. Бэкон понимал неизбежность этого обстоятельства и сам называл себя слугою потомства» (из трактата И. Д’Израэли «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1705 г.);
• «…Иоганн Кеплер выражается с убеждением в своей знаменитости: «Можно подождать знающего читателя целое столетие, если в течение 6-и тысяч лет явился только один подобный мне наблюдатель…» Этим Кеплер говорил, что его произведения оценят последующие века» (из трактата И. Д’Израэли «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1795 г.);
• Входя в науку, Жорж Кювье (1769–1832) был готов потрясти основы тогдашней зоологии. «Я не стану пускаться в тёмную метафизику, – писал он коллеге Пфаффу. – Мой путь – искать истину везде, где она может, где она хочет проявиться, – путь более долгий, но он вернее приведёт меня к цели…»;
• «После того, как в 1844 году Чарльз Дарвин /(809 – 1882) на 230 страницах впервые изложил свою теорию, он составил завещание, обращённое жене: «Я закончил труд о происхождении видов. Когда мир поймёт мои теории, наука сделает огромный шаг вперёд…» (из монографии «100 человек, которые изменили ход истории: Чарльз Дарвин», российск. изд. 2008 г.);
• «Умер Грегор Мендель (1822–1884) 6 января 1884 года, настоятелем того монастыря, где вёл свои опыты с горохом (стал основоположником науки о наследственности. – Е. М.). Не замеченный современниками, Мендель, тем не менее, нисколько не поколебался в своей правоте. Он говорил: «Моё время ещё придёт». Эти слова начертаны на его памятнике, установленном перед монастырским садиком, где он ставил свои опыты…» (из сборника Д. Самина «100 великих учёных», Россия, 2004 г.);
• «17 августа 1916 года постановлением Совета Министров СССР, подписанным Сталиным, Пётр Капица (1894–1984) был снят с должности начальника Главкислорода и с должности директора Института физических проблем (Москва) «за невыполнение решений Правительства о развитии кислородной промышленности в СССР, неиспользование существующей передовой техники в области кислорода за границей…» В письме к И. В. Сталину от 6 августа 1948 года П. Капица писал: «Из хода развития мировой техники становится всё очевиднее, что моя точка зрения на проблему интенсификации кислородом основных отраслей промышленности (горючее, металл и пр.) как на наиболее крупную из современных задач в развитии техники… становится общепризнанной… История учит, что в вопросах осуществления новой техники время неизбежно устанавливает научную правду, я и жду терпеливо того несомненного момента, когда всем будет неоспоримо ясно, что, когда 2 года тому назад у нас было полностью закрыто моё направление работ, мы не только пошли по неправильному пути копирования изживших себя немецких установок высокого давления, но, главное, мы безвозвратно погубили своё родное, оригинальное, очень крупное направление развития передовой техники, которым по праву должны были гордиться. Тогда же «опала» с меня будет снята, так как неизбежно будет признано, что я был прав как учёный и честно дрался за развитие у нас в стране одной из крупнейших технических проблем эпохи…» (из статьи П. Рубинина «Время неизбежно устанавливает научную истину», СССР, 1989 г.).
«Неизбежное признание» пришло к П. Капице через 40 (!) лет, когда ему была присуждена Нобелевская премия по физике «за фундаментальные исследования в области физики низких температур». Однако уверенность Капицы в «неизбежное установление научной правды» произвела, по-видимому, впечатление даже на «отца народов». Во всяком случае, новых репрессий в адрес П. Капицы не последовало…»
Социалисты-утописты, психоаналитики
• «Как-то, за несколько лет до смерти, Шарль Фурье (1772–1837) – французский социалист-утопист. – Е. М. – с почти демонической гордостью написал о себе в «Оде на открытие социальных судеб»: «Лишь я один измерил глубину обширных планов Творца, я один – Его ученик-истолкователь, я один освободил человечество; есть ли герой, есть ли пророк, более меня достойный бессмертия? Твои сыны устроят мне грандиозные похороны и проводят в Пантеон мой прах, обременённый большей славой, чем прах Цезаря и Наполеона» (из сборника В. Степаняна «Жизнь и смерть знаменитых людей», Россия, 2007 г.). «В Северной Америке влияние Фурье на развитие прогрессивных социальных идей было столь значительным, что 30 – 40-е гг… 19 века называют «фурьеристским периодом» истории социализма в Америке (А. Брисбен, П. Годвин, X. Грили и др.). Было создано более 40-а фурьеристских колоний. В России идеи Фурье уже в 1-й четверти 19 в. стали известны некоторым из декабристов и близким к ним представителям интеллигенции. В 30–40 гг. учением Фурье интересовались А. И. Герцен, Н. П. Огарёв. Выдающимися приверженцами Фурье были М. В. Петрашевский и петрашевцы. Идеи Фурье отразились в произведениях Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Чернышевского и др.» (из статьи И. Зильберфарба «Фурье», «Большая Советская энциклопедия», т. 28, СССР, 1978 г.);
• В марте 1913 года, в период самой яростной критики теории психоанализа, Зигмунд Фрейд (1856–1939) писал своему ученику и последователю Ш. Ференци: «Мы владеем истиной, в этом я так же уверен, как и 15 лет назад…»;
Писатели, поэты
• Обвинённый и в ереси, и в политическом заговоре, «гражданин города Солнца» Томазо Кампанелла (1568–1639) был приговорён к вечному заключению. Однако могучий бунтующий дух его не был сломлен. В одном из своих сонетов он писал: «Закованный в цепи, я всё-таки свободен; представленный одиночеству, но не одинокий; покорный, вздыхающий, я посрамлю своих врагов. Угнетённый на земле, я поднимаюсь в небеса с истерзанным телом и весёлой душой, и, когда тяжесть бедствия повергнет меня в бездну, крылья моего духа поднимут меня высоко над миром». После 25-летнего пребывания в неаполитанских тюрьмах, режим заключения учёного был смягчён, – ему даже удалось добиться разрешения на издание своих сочинений!;
• «Получив единодушное отвержение своего трактата «О Духе Законов» (Франция, 1748 г.), Шарль Луи Монтескьё (1689–1755) воскликнул: «Я вижу, что век мой ещё не дозрел до понятия моего творения; но, тем не менее, оно должно быть издано!»;
• В письме к И. Дмитриеву (сентябрь 1825 г.), за восемь месяцев до своей кончины, Николай Карамзин (1766–1826) признавался: «Знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность к небу за своё историческое дело (главный труд жизни «История Государства Российского», 1003–1886 гг.. – Е. М.)! Знаю, что и как пишу; в своём таком восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве; я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и человечеству. Ну, пусть никто не читает моей «Истории»: она есть, и довольно для меня…»;
• «Еще мальчишкой Ганс Христиан Андерсен (1805–1875) рассказывал старушкам из богадельни, которую он часто посещал, что его сказки понравятся самому королю, и он даже придёт в гости к Андерсену. И что бы вы думали? И Фредерик VII, и Фредерик VIII действительно будут приглашать сказочника во дворец, а когда ему станет тяжело передвигаться, сами станут заходить к нему в гости…» (из сборника Е. Коровиной «Великие загадки мира искусства. 100 историй о шедеврах мирового искусства», Россия, 2010 г.);
• Роман братьев Эдмона (1822–1896) и Жюля (1830–1870) де Гонкур «Жермини Ласерте» (Франция, 1865 г.) стал вершиной их творчества, но вызвал общественное порицание. В Дневнике от 17 января 1865 года, на следующий день после выхода романа, они провозглашают о том, что «тверды в своих дерзаниях»: «Преходящий успех для нас ничего не значит… мы соединились и образовали неразлучную пару для того, чтобы добиться какой-то цели и результата… Наши произведения рано или поздно будут признаны…»;
• «Эмиль Золя (1840–1902) вспоминает о том времени, когда брюки его и пальто частенько оказывались в ломбарде, а он сидел дома в одной рубашке… Но он ни на минуту не сомневался в успехе; конечно, он не представлял себе ясно своего будущего, но был убеждён, что достигнет многого. Золя добавляет, что довольно трудно выразить это чувство уверенности в себе, и со скромностью определяет его таким образом: «Я верил не столько в своё творчество, сколько в успех своих усилий»…» (из Дневника Э. и Ж. Гонкуров от 27 марта 1886 года);
• «В то время, когда в Союзе писателей (СССР, середина 1950-х гг.) шла суетливая возня вокруг золотых и серебряных медалей (Сталинские премии 1-й и 2-й степеней. – Е. М.), по Москве чеканно военной походкой ходил прекрасный поэт Борис Слуцкий (1919–1986), напечатавший только одно стихотворение, да и то в 40-м году. И, как ни странно, он был спокойней и уверенней всех нервничающих кандидатов в лауреаты. Оснований для спокойствия у него как будто не имелось. Несмотря на свои 35 лет, он не был принят в Союз писателей. Он жил тем, что писал маленькие заметки для радио и питался дешёвыми консервами и кофе. Квартиры у него не было. Он снимал крошечную комнатушку. Его стол был набит горькими, суровыми, иногда по-бодлеровски страшными стихами, перепечатанными на машинке, которые даже бессмысленно было предлагать в печать. И тем не менее Слуцкий был спокоен. Он всегда был окружен молодыми поэтами и вселял в них уверенность в завтрашнем дне. Однажды, когда я плакался ему в жилетку, что мои лучшие стихи не печатают, Слуцкий молча выдвинул свой стол и показал мне груды лежащих там рукописей. Я воевал, – сказал он, – и весь прошит пулями. Наш день придёт. Нужно только уметь ждать этого дня и кое-что иметь к этому дню в столе. Понял?!» Я понял…» (из воспоминаний Е. Евтушенко «Преждевременная автобиография», ФРГ, 1962 г.).
Художники, графики, скульпторы
• «Хотя художники и публика холодно встретили его рроизведения, Джон Констебль (1776–1837) – английский живописец и рисовальщик. – Е. М.), чувствуя свою правоту и своё право на место в искусстве, оставался спокоен…» (из сборника Д. Самина «100 великих художников», Россия, 2004 г.);
• «Скульптор Марк Антокольский (1843–1902) не нажил богатства. Далеко не все и не всегда понимали художника. Незадолго до смерти, несмотря на обиды, он не впадал в уныние: «Если у нас не поймут меня сегодня, поймут завтра, послезавтра, когда-нибудь, а поймут, – написал скульптор на клочке бумаги, – непременно поймут, в этом я убежден, в этом моя вера крепка, с этой верой я спокойно умру…» (из сборника В. Степаняна «Жизнь и смерть знаменитых людей», Россия, 2007 г.);
• «Мои силы иссякли слишком быстро, – пишет Винсент ван Гог (1853–1890) в последний год своей жизни, – но я предвижу, что, двигаясь в том же направлении, другие в будущем сумеют сделать бесконечно много хорошего…» (из письма к брату Тео, Сен-Реми, 10 сентября 1889 г.);
• Отвечая критикам его картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (Россия, 1878–1891 гг.), Илья Репин (1844–1930) объяснял, что он находится под своим собственным влиянием: «Я знаю, что я в продолжение многих лет, и прилежных, довёл, наконец, свою картину до полной гармонии в самой себе, что редко бывает, – и совершенно спокоен. Как бы она кому ни казалась – мне всё равно… И теперь хотя бы миллион корреспондентов «Times» разносили меня в пух и прах, я остался бы при своём; я глубоко убеждён, что теперь в этой картине не надо ни прибавлять, ни убавлять, ни одного штриха…» (из сборника И. Репина «Письма к писателям и литературным деятелям», СССР, 1950 г.).
Композиторы, музыканты
• «Ревниво относясь к своей профессиональной репутации среди современников, предшественники Людвига ван Бетховена (1770–1827) менее всего были озабочены своей репутацией перед потомками. Но для Бетховена особенно важной была его репутация в будущем, ибо творил он для вечности, глубоко убеждённый в том, что будущее скажет своё слово и воздаст по заслугам каждому. И Бетховен с горделивым достоинством готов был предстать перед судом вечности, уверенный в том, что искусство и истина будут свидетельствовать в его пользу. «Он понравится потом», – говорит композитор в связи с реакцией неприязни при первом исполнении одного из своих поздних квартетов, не заботясь об оценке современности» (Р. Роллан). По свидетельству Г. Брейнинга, Бетховен верил, что «в далёком будущем все его произведения воскреснут»… (из статьи А. Климовицкого «Некоторые особенности творческой лаборатории Бетховена. Методологические заметки», СССР, 1980 г.);
• «Моя вера в справедливый суд будущего непоколебима, – был убеждён Пётр Чайковский (1840–1893/), – Я заранее, при жизни, вкушаю уже наслаждение той долей славы, которую уделит мне история русского искусства…» (из переписки П. И. Чайковского. Собрание сочинений, т. VII, СССР, 1959–1981 гг.);
• «В Девятой и неоконченной Десятой симфониях (1910–1911 гг.), а также в «Песни о Земле» (1909 г.) Густав Малер (1860–1911) попытался отобразить своё прошлое, в котором было немало разочарований и ударов судьбы… Уверенность в посмертном земном будущем и убеждённость в том, что его музыка уже в этой его жизни есть «предвидение будущего», позволяет понять, почему Малер порой столь индифферентно реагировал на безграмотную или разгромную критику и объяснял это такими словами: «Моё время ещё впереди – у меня масса времени, я могу подождать, живой или мёртвый, это всё равно…» (из книги А. Ноймайра «Музыканты в зеркале медицины», Австрия, 1995 г.);
• Критики отмечали, что после «Весёлой вдовы» (1905 г.) и «Графа Люксембурга» Франц Легар (1870–1948) стал писать одни «оперетки». Когда его обвинили в том, что он «вконец исписался или исчерпал жанр», композитор ответил: «Оперетта не умирает… Умирают только те, кто не умеет с ней обращаться, – любители штампов и эпигоны. Каждый настоящий художник – первопроходчик, пробивающий туннель через тёмные горы к свету. Новый материал, новые люди, новые формы! Я – человек настоящего времени, а всё нынешнее время не что иное, как большая мастерская для следующего поколения. Оно перестраивает драму, роман, комедию, почему бы не оперетту?.. Есть только одна инстанция, перед которой я склоняюсь, – это моя совесть. В остальном я позволяю себя ругать и хвалить и делаю то, что должен…»
2. «Природа моя выше обыкновенной…»
• «Джероламо Кардано (1501–1576), математик, философ и врач, писал, обращаясь к потомству: «Природа моя выше обыкновенной человеческой субстанции и приближается к бессмертные духам»;
• Харменс ван Рейн Рембрандт (1806–1669) не мог объяснить природу своего таланта, но был уверен в своём предназначении: «То, что я хочу и пытаюсь сделать, настолько выходит за рамки обычного, что я либо велик, либо смешон. Либо я новый Микеланджело, либо осёл. Середины быть не может…»;
• «Будучи ещё очень молодым, американский философ-самоучка Бенджамин Франклин (1706–1790) питал возвышенное уважение к своему моральному и литературному превосходству. «Около этого времени, – говорит Франклин, – я составил смелый и трудный проект, как достигнуть морального совершенства».
И он же заключает торжественным уверением: «Потомство моё должно знать, что один из его предков достиг истинного счастья в жизни»…» (из трактата И. Д’Израэли «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1795 г.).
• Император Наполеон I (1769–1821) фанатично верил в своё избранничество. «Я чувствую, как что-то подталкивает меня к неведомой цели, – говорил он. – Когда я её достигну, и моя миссия будет выполнена, достаточно будет малейших усилий, чтобы сразить меня. А до тех пор мне ничего не грозит – ни в Париже, ни в бою… Моя звезда хранит меня…»;