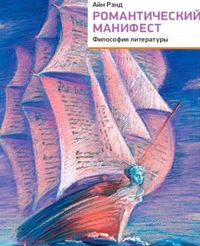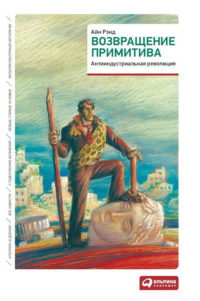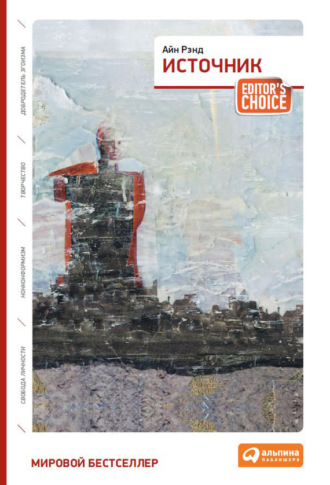
Полная версия
Источник
– Мистер Франкон, позвольте мне спроектировать дом так, как было спроектировано здание Дэйна.
– То есть?
– Позвольте мне это сделать. Не скопировать здание Дэйна, а выполнить проект так, как это сделал бы Генри Камерон и как могу сделать я.
– Вы хотите сказать – по-модернистски?
– Я… в общем, да, можно сказать и так.
– Вы в своем уме?
– Мистер Франкон, прошу вас, выслушайте меня. – Слова Рорка походили на ноги канатоходца, неторопливые, напряженные, ощупью разыскивающие единственную нужную точку для следующего шага, ноги, покачивающиеся над бездной, но делающие очень точные шаги. – Я не критикую те дома, которые строите вы. Я у вас работаю, получаю у вас жалованье, у меня нет права высказывать свои возражения. Но сейчас… сейчас клиент сам просит… Вы же ничем не рискуете. Он сам так хочет. Подумайте только, вот человек, единственный человек, который видит и понимает, и хочет такой дом, и в состоянии построить его. Вы же не хотите впервые в жизни вступить в борьбу с клиентом – и ради чего? Чтобы обманом навязать ему все ту же старую дрянь. И это в то время, как все ваши заказчики хотят именно этой дряни и нашелся только один-единственный, кто обратился к вам с совсем другим заказом.
– А вы не забываетесь? – осведомился Франкон ледяным тоном.
– Да не все ли вам равно? Вы только дайте мне сделать этот проект по-своему и показать ему. Только показать. Он ведь уже отверг три эскиза, ну, отвергнет четвертый – только и всего! Но если он его примет… если примет…
Рорк не умел выпрашивать, это у него получалось отвратительно. Говорил он напряженно, монотонно, с заметной натугой; и его мольба звучала как оскорбление, адресованное человеку, вынудившему его взмолиться. Китинг бы дорого заплатил, чтобы увидеть Рорка в этот момент. Но Франкон был не в состоянии оценить ту победу, которой до него никто еще не добивался. Он воспринял только оскорбление.
– Я вас правильно понял? – спросил он. – Вы меня критикуете и пытаетесь преподать мне урок в области архитектуры?
– Я умоляю вас, – сказал Рорк и закрыл глаза.
– Если бы вы не были протеже мистера Китинга, я не стал бы утруждать себя дальнейшей дискуссией с вами. Но раз уж вы столь очевидно наивны и неопытны, я замечу вам, что не имею обыкновения интересоваться мнением простых чертежников в эстетических вопросах. Так что, будьте любезны, заберите фотографию – и мне не нужно от вас никакого здания, как его мог бы спроектировать Камерон. Мне нужно, чтобы вы внесли в эскиз конкретного проекта те изменения, которые связаны с особенностями участка. Что же касается классического решения фасада, вы будете строго следовать моим указаниям.
– Я не могу этого сделать, – очень тихо произнес Рорк.
– Что? Вы это мне говорите? Вы что, в самом деле сказали: «Извините, я не могу этого сделать»?
– Нет, мистер Франкон, я не говорил «извините».
– Тогда что же вы говорили?
– Что не могу этого сделать.
– Почему?
– Это вам будет неинтересно. Не просите меня заниматься проектированием. Я готов делать для вас любую другую работу, какую только пожелаете. Но не эту. И тем более не с творением Камерона.
– То есть как это – не заниматься проектированием? Вы же рассчитываете когда-нибудь стать архитектором? Или нет?
– Но не таким путем.
– Ага… понятно. Значит, не можете выполнить задание? Точнее, не хотите?
– Если вам так больше нравится.
– Слушайте, вы, дерзкий болван, это же неслыханно!
Рорк поднялся:
– Мне можно идти, мистер Франкон?
– За всю свою жизнь, – заорал Франкон, – за все годы работы я еще не видел ничего подобного! Зачем вас сюда наняли? Чтобы вы заявляли мне, что вы согласны делать, а что не согласны?! Чтобы поучать меня, критиковать мой вкус, выносить приговоры?!
– Я ничего не критикую, – еле слышно сказал Рорк. – И никаких приговоров не выношу. Просто есть вещи, которые я делать не могу. И довольно об этом. Позвольте идти?
– Иди-иди! Из кабинета моего иди и из фирмы! Иди и не возвращайся! Хоть к черту, к дьяволу! Иди и подыщи себе другое место! Попробуй поищи дурака, который тебя возьмет! Получай расчет и убирайся!
– Да, мистер Франкон.
Вечером Рорк пешком дошел до подвального кабачка, куда всегда заходил после работы Майк. Теперь Майк работал на строительстве фабрики, которое вел тот же подрядчик, что и на других самых крупных объектах Франкона. Днем Майк рассчитывал встретиться с Рорком на площадке, куда тот должен был приехать с проверкой. Поэтому сейчас он встретил Рорка неприветливо:
– В чем дело, рыжий? Филонишь?
Услышав, что произошло, Майк замер, сделавшись похожим на оскалившего зубы бульдога.
– Вот сволочи, – бормотал он в промежутках между более сильными эпитетами, – какие же сволочи!..
– Успокойся, Майк.
– Ну и куда теперь, рыжий?
– Подыщу что-нибудь в том же духе – до тех пор, пока сегодняшняя история не повторится.
Вернувшись из Вашингтона, Китинг сразу же прошел в кабинет Франкона. В чертежную он не заглядывал и новостей не слышал. Франкон тепло приветствовал его:
– Ну, малыш, просто здорово, что ты вернулся! Коньячку или виски с содовой?
– Нет, спасибо. Угости лучше сигаретой.
– Держи… Выглядишь превосходно! Лучше всех. Как это тебе удается, везунчик? Мне надо тебе столько порассказать! Как идут дела в Вашингтоне? Все в порядке? – Китинг не успел и рта раскрыть, как Франкон затараторил дальше: – Со мной случилась пренеприятная вещь. Очень огорчительная. Помнишь Лили Ландау? Мне-то казалось, что у меня с ней все на мази, но, когда я ее последний раз встретил, получил от ворот поворот! И знаешь, кто ее отбил? Ты не поверишь! Гейл Винанд собственной персоной! Высоко летает девка! Во всех его газетах – сплошные ее портреты, ножки – ты бы видел! Счастье привалило! А что я могу предложить ей взамен этого? А он знаешь что сделал? Помнишь, как она всегда говорила – никто, дескать, не может дать ей то, чего ей больше всего хочется: родного дома, милой австрийской деревушки, где она родилась? И представляешь, Винанд купил эту чертову деревушку и перевез сюда – всю до последнего гвоздика! Здесь он заново собрал ее на берегу Гудзона. Там она сейчас и стоит, с булыжной мостовой, церковью, яблонями, свинарниками и прочим! А две недели назад он взял и подарил все это Лили. А как же иначе? Если царь вавилонский сумел построить висячие сады для своей затосковавшей по дому женушки, то чем Гейл Винанд хуже? Лили, конечно, расплывается в улыбках и благодарностях, но на самом деле ей, бедняжке, совсем не весело. Ей куда больше хотелось бы норковую шубу. А эта проклятая деревня ей ни к черту не нужна. И Винанд это прекрасно знал. А вот, поди ж ты, деревня-то стоит, на самом Гудзоне. Вчера он устроил для нее прием, прямо там, в деревне. Костюмированный бал, где сам мистер Винанд изволил появиться в костюме Чезаре Борджиа[44]! А кем ему еще быть? И знаешь, такая была вечеринка! Такое говорят, что ушам не веришь! Но ты же понимаешь, это Винанд, ему все можно! А на другой день он знаешь что придумал? Притащился с целым выводком детишек, которые, видишь ли, никогда не видели австрийской деревни, филантроп хренов! А потом забил все газеты фотографиями этого выдающегося события и слюнявыми статейками о ценности образования. Конечно, тут же получил кучу восторженных писем от женских клубов! Хотел бы я знать, что он станет делать с деревней, когда даст отставку Лили. А это скоро произойдет, поверь мне, они у него подолгу не задерживаются. Как ты думаешь, тогда у меня с ней что-нибудь получится?
– Непременно, – сказал Китинг. – Не сомневайся. А как дела здесь, в бюро?
– Прекрасно. Как всегда. Лусиус простудился и выжрал весь мой лучший арманьяк. Ему же это для сердца вредно, да и стоит сто долларов ящик!.. Кроме всего прочего, Лусиус влип в мерзкую историю. И все из-за этой его мании, фарфора, будь он неладен! Пошел, понимаешь, и купил чайничек у скупщика краденого. А ведь прекрасно знал, что товарец-то ворованный! Пришлось мне попотеть, чтобы избавить его от публичного скандала… И кстати, я уволил твоего приятеля, как бишь его?.. Рорка.
– Да? – сказал Китинг и после секундной паузы спросил: – А за что?
– Такой наглый выродок! И где ты его откопал?
– А что произошло?
– Я, понимаешь, хотел оказать ему любезность, дать возможность показать себя. Попросил его сделать эскиз дома Фаррела, ну, ты помнишь, того самого, который Брент в конце концов спроектировал, и мы уломали Фаррела принять этот проект. Да-да, упрощенный дорический. Так вот, твой приятель наотрез отказался это делать. Идеалы у него какие-то или что-то вроде. Короче, я указал ему на дверь… Что такое? Чему ты улыбаешься?
– Так просто. Представил себе эту сцену.
– Только не проси меня принять его обратно.
– Что ты! И не подумаю.
В течение нескольких дней Китинга не покидала мысль, что надо бы навестить Рорка. Он не знал, что скажет Рорку, но смутно чувствовал, что что-то сказать надо. Но он все откладывал. В работе у него появлялось все больше уверенности, и он чувствовал, что Рорк ему не так уж и нужен. День шел за днем, а он так и не заходил к Рорку и даже испытывал некоторое облегчение от того, что теперь может спокойно забыть о его существовании.
Из окон своей комнаты Рорк видел крыши, цистерны с водой, трубы, бегущие далеко внизу автомобили. В тишине его комнаты, в праздных днях, в руках, обреченных на безделье, таилась угроза. Еще он чувствовал, что угроза, и более страшная, поднимается от раскинувшегося внизу города, словно каждое окно, каждый кусочек мостовой стали мрачными, непроницаемыми, чужими, налились молчаливой враждебностью. Но это его не беспокоило. С этой враждебностью он давно уже свыкся.
Он составил список архитекторов, чьи работы вызывали у него наименьшее омерзение, в порядке убывания достоинств, и занялся поисками работы – спокойно, методично, без гнева и без надежды. Он не задумывался, насколько мучительны для него эти дни, твердо зная одно – это надо делать.
Архитекторы, к которым он приходил, вели себя по-разному. Одни смотрели на него через стол добрым и рассеянным взглядом, всем своим видом показывая, что его стремление стать архитектором очень трогательно и похвально, но непонятно и, при всем сочувствии, достойно сожаления, как и многие иные заблуждения юности. Другие улыбались ему, плотно сжимая губы. Их, казалось, радовало само присутствие Рорка в кабинете, ведь оно лишний раз напоминало им о том, какого успеха они добились. Третьи холодно цедили слова, как будто его стремление было для них личным оскорблением. Четвертые разговаривали резко и коротко, самим тоном давая понять, что им, конечно, нужны хорошие чертежники, нужны постоянно, но к нему это никоим образом относиться не может, и потому не будет ли он столь любезен поубавить настырности и не вынуждать их высказаться по этому поводу более откровенно.
Это не было намеренным недоброжелательством и не основывалось на отрицательной оценке его способностей. Никто из них не считал его бездарным. Просто их совершенно не интересовало, хорош он или нет. Правда, иногда его просили показать свои работы, он протягивал их через стол, чувствуя, как мускулы руки непроизвольно сжимаются от стыда. Ощущение было таким, словно с него срывали одежду, а стыд возникал не оттого, что его голое тело выставлялось на обозрение, а оттого, что его рассматривали равнодушные глаза.
Время от времени он заезжал в Нью-Джерси навестить Камерона. Они вдвоем сидели на крыльце домика, стоящего на холме. Камерон укладывался в инвалидном кресле, сложив руки на коленях поверх старого одеяла.
– Как живется, Говард? Тяжеленько?
– Нет.
– Хочешь, дам тебе письмо к одному из этих подонков?
– Нет.
И больше Камерон не заговаривал на эту тему. Ему не хотелось об этом говорить, не хотелось думать, что его ученик будет отвергнут всеми и не найдет себе места во всем огромном городе. Когда Рорк приезжал к нему, он говорил об архитектуре, говорил спокойно и уверенно, как бы на правах истинного хозяина. Они сидели вдвоем, глядя на город, раскинувшийся вдали, за рекой, на самом краю горизонта. Темнеющее небо светилось как зеленовато-синее стекло. Дома казались облаками, проступившими на этом стекле, серыми облаками, замершими на мгновение в виде правильных прямоугольников. И лишь последние лучи заходящего солнца золотили их шпили…
Текли летние месяцы, и Рорк исчерпал свой список. Когда он пошел по второму кругу, значительно его расширив, он узнал, что о нем кое-что известно, и везде выслушивал одни и те же слова, произносимые то робко, то грубо, то гневно, то почти просительно: «Вас выгнали из Стентона. Вас выгнали от Франкона». У этих разных голосов было одно общее свойство – в них слышалось облегчение от того, что не надо принимать решение. Оно уже было принято другими.
Вечерами он сидел на подоконнике, курил, прижав ладони к стеклу. Город лежал у него под пальцами, стекло холодило кожу.
В сентябре он прочел в «Трибуне архитектора» статью Гордона Л. Прескотта, озаглавленную «Уступить дорогу новому». В ней утверждалось, что трагедия профессии архитектора заключается в тех трудностях, которые возникают на пути талантливого новичка, что в этой борьбе гибнут незамеченными великие таланты, что архитектура и сама гибнет от недостатка свежей крови и свежих идей. Автор заявлял, что поставил себе целью поиск перспективных новичков и намерен всячески поощрять их, развивать их дар, помогать им реализовать себя, как они того заслуживают. Рорк никогда не слышал о Гордоне Л. Прескотте, но в статье чувствовалась искренняя убежденность. Он позволил себе переступить порог кабинета Прескотта с некоторым проблеском надежды.
Приемная Гордона Л. Прескотта была выдержана в серых, черных и пурпурных тонах – очень смело и в то же время сдержанно и корректно. Молодая, очень привлекательная секретарша сообщила Рорку, что мистер Прескотт никого не принимает без предварительной записи, но она с величайшей радостью запишет мистера Рорка на следующую среду, на два пятнадцать. В среду, ровно в два пятнадцать, секретарша с улыбкой попросила Рорка присесть и подождать всего минуточку. Без четверти пять он был допущен в кабинет Гордона Л. Прескотта.
На Гордоне Л. Прескотте был твидовый пиджак в коричневую клетку и белый мохеровый свитер с высоким воротником. Ему было тридцать пять лет, он был высок и атлетически сложен, но выражение прозорливой житейской мудрости на его лице сожительствовало с нежной кожей, курносым носом и пухлым ротиком типичного кумира одноклассниц. Это лицо также отличалось глубоким ровным загаром. Светлые волосы Гордона Л. Прескотта были коротко подстрижены, как у прусского офицера. Словом, вид у него был подчеркнуто мужественный, подчеркнуто непритязательный. Чувствовалось, что впечатление, которое он должен производить, тщательно продумано и рассчитано.
Он молча слушал Рорка; глаза его походили на секундомер, аккуратно отсчитывающий каждую секунду, затраченную Рорком на произнесение каждого слова. Первую фразу он выслушал до конца, вторую прервал, коротко бросив: «Покажите рисунки», – словно давая понять, что все, что может сказать Рорк, ему уже давно хорошо известно.
Он взял эскизы своими бронзовыми руками. И, еще не посмотрев на них, сказал:
– Да-да, как много молодых людей приходят ко мне за советом. Как много! – Он бросил взгляд на первый эскиз и поднял голову, не успев рассмотреть его. – Конечно, начинающим особенно трудно ухватить связь между практическим и трансцендентным. – Он положил эскиз в низ пачки. – Архитектура в первую очередь понятие утилитарное, и проблема заключается в том, чтобы возвысить принцип прагматизма до уровня эстетической абстракции. Все прочее – чепуха. – Он скользнул взглядом еще по двум эскизам и тоже положил их под низ. – Терпеть не могу фантазеров, которые воспринимают архитектуру ради архитектуры как некий священный крестовый поход. Великий динамический принцип – это общий принцип. – Он бегло посмотрел очередной эскиз и положил его на место. – Окончательным критерием для художника являются вкусы и симпатии публики. Гений – это тот, кто умеет выразить всеобщее. Незаурядность заключается в том, чтобы научиться использовать заурядное. – Он взвесил стопку листов на ладони, увидел, что проглядел уже половину, и положил их на стол. – Ах да, – сказал он. – Ваши работы. Очень интересно. Но непрактично. Незрело. Нет внятности и дисциплины. Взрослости не хватает. Оригинальность ради оригинальности. Совсем не отвечает духу времени. Если хотите составить представление, в чем примерно общество нуждается сегодня особенно остро, вот смотрите. – Он вытащил из ящика стола рисунок. – Этот молодой человек пришел ко мне без всяких рекомендаций, желторотый новичок, никакого опыта работы. Когда научитесь создавать нечто подобное, у вас больше не будет необходимости искать работу. Я взглянул на этот его единственный эскиз и немедленно взял его к себе, на целых двадцать пять долларов в неделю. Нет ни малейшего сомнения, что он – потенциальный гений.
Он протянул эскиз Рорку. На рисунке был изображен дом в виде силосной башни, в котором непостижимым образом проступали черты Парфенона, предельно упрощенного и будто страдающего дистрофией.
– Вот, – сказал Гордон Л. Прескотт, – это и есть оригинальность, новое в вечном. Старайтесь стремиться к чему-то подобному. Честно говоря, я не могу предсказать вам великое будущее. Будем откровенны. Я не хотел бы своим авторитетом порождать у вас иллюзии. Вам еще многому надо учиться. Сейчас я не взялся бы гадать, какой у вас талант и как он может развиться в будущем. Но если вы будете упорно трудиться, возможно… Однако архитектура – тяжелая профессия, и конкуренция в ней очень велика, очень… А теперь, с вашего позволения, меня ждут другие посетители…
Поздним октябрьским вечером Рорк возвращался домой. Кончался еще один из вереницы дней, растянувшихся в месяцы. Он затруднился бы припомнить, что было с ним сегодня, с кем он встречался, в какой форме получил отказ. Все его силы сосредоточивались на тех нескольких минутах, когда он попадал в очередной кабинет. Это надо было сделать, а когда все было позади, это его больше не касалось. Возвращаясь домой, он вновь обретал свободу.
Перед ним вытянулась длинная улица. Ряды домов, как высокие речные берега, сходились впереди так близко, что ему казалось, будто он может расправить руки и, ухватившись за шпили, раздвинуть дома. Он шел стремительно; мостовая, словно трамплин, подбрасывала его вперед на каждом шагу.
Он увидел освещенный бетонный треугольник, висящий в нескольких сотнях футов над землей. Он не видел, что находилось ниже и служило треугольнику опорой, и поэтому мог представить себе все что угодно, все, что поместил бы туда сам. И внезапно он подумал, что сейчас, в этот самый момент, в глазах всего города, всех людей на земле, ему, Говарду Рорку, не суждено что-либо построить. Никогда – а ведь он еще и не начал. Этому он мог противопоставить лишь непоколебимую внутреннюю уверенность, что строить он будет. Он пожал плечами. Все, что происходит с ним в чужих кабинетах, лишь явления второго порядка, незначительные эпизоды на том пути, сути которого не дано ни понять, ни ощутить никому из хозяев этих кабинетов.
Он свернул в боковую улочку, ведущую к Ист-Ривер[45]. Далеко впереди красным пятном в тусклом сумраке горел одинокий светофор. Старые дома прижимались к земле, согнувшись под тяжестью неба. Улица была пуста; его шаги разносились гулким эхом. Он шел с поднятым воротником, заложив руки в карманы. Когда он проходил мимо фонаря, из-под его каблуков вырастала тень и проносилась по стене длинной черной стрелой – так проносится по лобовому стеклу автомобиля стеклоочиститель.
IX
Джон Эрик Снайт просмотрел рисунки Рорка, отложил в сторону три из них, собрал в ровную стопку остальные, вновь просмотрел три отложенных, тремя резкими хлопками положил их один за другим поверх стопки и сказал:
– Сильно. Радикально, но сильно. Вечером что поделываете?
– А что? – спросил ошеломленный Рорк.
– Вы свободны? Не возражаете начать прямо сейчас? Снимите пальто, пройдите в чертежную, позаимствуйте у кого-нибудь инструмент и быстренько сообразите мне набросок универмага, который мы перестраиваем. Наскоро, в самых общих чертах, но чтобы завтра все было у меня на столе. Допоздна поработать не против? Батареи работают, а я распоряжусь, чтобы Джо принес вам чего-нибудь на ужин. Кофе хотите, виски или еще чего? Только скажите Джо, он все достанет. Так останетесь?
– Да, – не веря своим ушам, сказал Рорк. – Я всю ночь могу работать.
– Чудесно! Замечательно! Как раз камероновца мне и недоставало. Остальные у меня уже есть. Да, сколько вам у Франкона платили?
– Шестьдесят пять.
– Я не Гай-эпикуреец и такой роскоши позволить себе не могу. Максимум пятьдесят. Годится? Отлично. Приступайте. Я велю Биллингсу ввести вас в курс дела насчет универмага. Я хочу чего-нибудь модернового. Понимаете? Современного, необычного, безумного, чтобы у всех глаза повылазили. Не сдерживайте себя. Валяйте во все тяжкие. Выкиньте любой номер, который придет вам в голову, чем безумнее, тем лучше. Пошли!
Джон Эрик Снайт стремительно вскочил на ноги, широко распахнул дверь в гигантских размеров чертежную, влетел туда, наткнулся на кульман, остановился и сказал полному мужчине с мрачным лунообразным лицом:
– Биллингс, это Рорк, наш модернист. Покажи ему бентоновский универмаг. Выдай инструмент. Оставь ему ключи и покажи, что надо запереть перед уходом. Считай его в штате с сегодняшнего утра. Пятьдесят в неделю. Во сколько у меня встреча с братьями Долсон? Уже опаздываю. Пока. Сегодня больше не вернусь.
Он выбежал и хлопнул дверью. Биллингс не выказал ни малейшего удивления. Он посмотрел на Рорка так, словно тот работает здесь с незапамятных времен, и заговорил бесстрастно, усталым и протяжным голосом. Через двадцать минут он оставил Рорка один на один с кульманом, выдав ему бумагу, карандаши, инструменты, набор планов и фотографий универмага, таблицы и длинный список инструкций.
Сжимая в кулаке тонкий ствол карандаша, Рорк долго смотрел на лежащий перед ним чистый лист белой бумаги. Он положил карандаш и снова взял его, тихонько поглаживая большим пальцем гладкую поверхность. Он заметил, что карандаш дрожит. Он быстро положил карандаш, разозлившись на себя за непростительную слабость, ведь он позволил себе отнестись к этой работе как к чему-то жизненно важному. Еще его разозлило внезапное осознание того, во что в действительности обошлись ему долгие месяцы безделья. Кончики его пальцев были прижаты к бумаге, как будто бумага не отпускала их, как не отпускает случайно прикоснувшегося к нему человека оголенный электрический провод. Не отпускает и причиняет боль. Оторвав пальцы от бумаги, Рорк приступил к работе…
Джону Эрику Снайту было пятьдесят лет. На лице его застыло хитро-довольное выражение, одновременно проницательное и порочное, будто с каждым, с кем он общается, его связывает некая постыдная тайна, о которой не стоит упоминать, поскольку тайна эта очевидна для обоих. Он был выдающимся архитектором, говоря об этом факте, Снайт не менял выражения лица. Гая Франкона он считал непрактичным идеалистом. Самого Снайта никакие классические догмы не сдерживали. Его взгляды и приемы отличались завидной широтой – он строил все. К модернистской архитектуре он не испытывал ни малейшей неприязни и охотно строил, если какой-нибудь редкий заказчик того желал, прямоугольные коробки с плоскими крышами. Этот стиль он называл прогрессивным. Строил он и особняки в романском стиле, который именовал утонченным, и готические церкви – это у него называлось одухотворенным. Для него между всеми этими зданиями не было никакой разницы. Злился он, только когда его называли эклектиком.
У него была собственная система. На него работало пять проектировщиков разного типа, и он устраивал между ними состязание по каждому полученному заказу. Он сам определял проект-победитель и совершенствовал его с помощью деталей, позаимствованных из других четырех проектов.
– Одна голова хорошо, – говаривал он, – а шесть лучше.
Когда Рорк увидел окончательный проект универмага Бентона, он понял, почему Снайт не побоялся нанять его. Он узнал свою планировку пространства, свои окна, свою систему циркуляции воздуха. Но вдобавок увидел коринфские капители, готические своды, колониальные люстры и немыслимую лепнину, в которой было что-то мавританское. Рисунок был выполнен акварелью с поразительным изяществом, наклеен на картон и прикрыт тончайшим слоем мягкой гофрированной бумаги. Служащим позволялось взглянуть на рисунок только с безопасного расстояния, предварительно вымыв руки. Курить в одной комнате с рисунком строжайше запрещалось. Джон Эрик Снайт придавал огромное значение тому, чтобы рисунок, который следовало передать заказчику, имел безупречный вид. Он даже нанял молодого китайца, изучающего архитектуру, исключительно для создания этих шедевров.