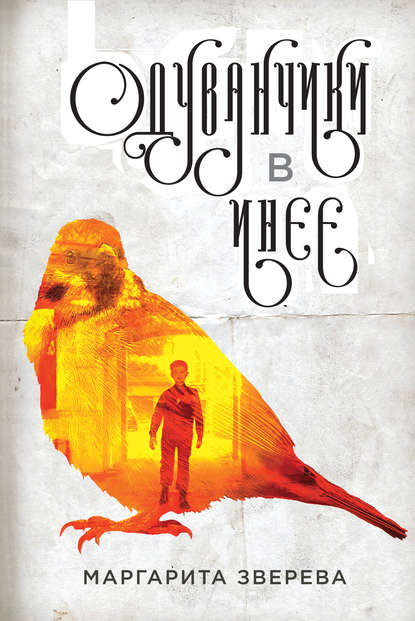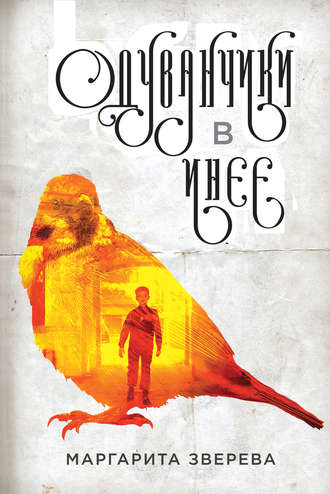
Полная версия
Одуванчики в инее
Я сердился на маму и за то, что она участвует в этом беспределе пустоты и гнусности, но она всегда только вздыхала и становилась такой грустной, что я сразу чувствовал себя виноватым.
– А что мне делать? Что? – срывающимся голосом говорила мама, сидя за кухонным столом и упираясь лбом в ладонь, после того как бабинец рассасывался до лучших времен. – Сказать им, что я не хочу иметь с ними ничего общего? Меня на работе и так все с утра до вечера мучают. Думаешь, мне хочется, чтобы мне и здесь устраивали нервотрепку?
– Ты хоть понимаешь, что они и тебя разрывают на маленькие клочки, когда тебя нет рядом с ними? – настаивал я на своем.
Почему-то никому не казалось странным то, что из злостных и упоительных сплетней не исключались и сами участницы бабинца, если их по какой-либо причине вдруг не оказывалось на очередном шабаше.
Мама молча отводила взгляд в окно, и я бросался утешать ее, твердя, что если ей без бабинца будет хуже, чем с ним, то пусть он задымит и затопит болтовней хоть всю квартиру. Она улыбалась, но веселей не становилась. Наверное, она скучала по папе, думал я. А тогда всякое отвлечение было простительно. К счастью, мама не могла принимать участие в этих заседаниях лицемерия чаще, чем раз в неделю, у нас дома, потому что во все остальные дни они встречались в мамино рабочее время, так как сами на работу не ходили никогда, и надо было чем-то скоротать день до вечерних программ.
– Лялька Кукаразова? – поморщился я в ответ на заявление Василька. – Мог бы кого пооригинальнее на такую роль придумать.
– Я ничего не придумал! – закричал Василек и выхватил у меня только что всученный альбом. Только сейчас я заметил, насколько он был старым. Переплет еле сдерживал тоненькие, пожелтевшие листочки, а поцарапанная и грязная обложка норовила отвалиться в любой момент. Василек судорожно пролистал страницы, остановился на нужном месте и сунул мне альбом уже в лицо. – Смотри!
Я немного отпрянул, нехотя скользнул взглядом по древней черно-белой постановочной фотографии и… оцепенел. На портрете рядом со стоящим элегантным джентльменом с острыми усиками и пенсне, во фраке и цилиндре, сидела женщина на бархатном стуле с подлокотниками в виде львиных лап. И я был готов поспорить на всю свою библиотеку и глобус в придачу, что это была некто иная, как Лялька Кукаразова. Василек явно остался доволен моим ошарашенным видом.
– Ну что я сказал! – заулыбался он во весь рот. – Она бессмертная колдунья!
– Ну почему же обязательно колдунья? – пролепетал я первое, что пришло в голову. – Может быть, и вампирша.
Василек решительно покачал головой, причем дуршлаг следовал его движениям с некоторым замедлением.
– Нет, она совершенно точно колдунья, – сказал он значимо. – Вспомни всех этих людей и свет, и дым!
Я медленно кивнул. К Ляльке Кукаразовой часто наведывались в гости разные люди. Некоторые были интересными, в высоких шляпах и пальто до пола или в таких платьях, которые на улице никогда не увидеть, некоторые совершенно обычные. Но всех их объединяло то, что приходили они с напряженными и нахмуренными лицами, а уходили, уже насвистывая и пританцовывая.
Как-то раз мы с Васильком и Макароном, его братом, спускались с чердака и оказались в правильном месте в правильное время. Как раз когда мы проходили мимо двери мадам Кукаразовой (мадамой я ее называл, потому что столь экзотическое существо виделось мне исключительно на фоне Эйфелевой башни с бокалом красного вина в руке, обтянутой бархатной перчаткой), за ней послышались прощающиеся голоса, она распахнулась, и нам открылась вся красота этого окутанного манящей тайной места.
Две невообразимо высокие дамы в белых платьях кланялись Ляльке Кукаразовой чуть ли не в пол, и когда они наклонялись, можно было получше разглядеть интерьер. Все было темное и одновременно блестящее. На стенах, переливающихся разными оттенками зеленого, висели зеркала в золотых оправах, картины бледных как смерть людей с высокими серыми париками и черно-белые фотографии. С темно-зеленого потолка свисала внушительная люстра и бросала, несмотря на свои размеры, только скудный свет на мебель цвета горького шоколада, еле вмещавшуюся в коридорчик. На узкой подставке стоял старинный черный телефон с большой трубкой и диском для набора номера, а рядом с ним висела доска, на которой болтался кусок мела на золотой цепочке.
Но самое интересное творилось на заднем плане. Как и во всех других квартирах нашего дома, из коридора можно было попасть во все остальные комнаты, и последняя дверь, ведущая в гостиную, была открыта настежь. Из нее клубами валил белый дым, пахнущий неземными цветами и всеми пряностями мира, и падал яркий свет, мерцающий розовым и светло-зеленым. У меня перед глазами непроизвольно возник гадальный хрустальный шар, хотя видеть, что действительно находилось в гостиной я, конечно, не мог.
Я почувствовал, как за мной оцепенели мальчишки. И тут, когда высокие дамы в белом в очередной раз согнулись пополам, я поймал на себе спокойный и пронизывающий насквозь взгляд Ляльки Кукаразовой. Я вздрогнул. Волосы ее лились, как ручей, по контурам темно-фиолетового платья, расстилающегося по полу, а выражение лица ни капли не выдавало эмоций. Была ли она недовольна тем, что соседские дети сунули свои носы (непроизвольно, правда, но все же) в ее личное пространство, или считала, что и так было пора наводить на весь двор страх и трепет?
Дамы-великанши вышли, не удостоив нас даже взглядом, словно нас вовсе и не было на лестничной площадке, и это мы были пришельцами из иных миров, а не они, и дверь с размаху захлопнулась и отрезала нас от того места, которому отныне суждено было стать воплощением всех наших грез. Василек вцепился в дуршлаг, а Макарон в длинную шею, которая очень способствовала и так очевидным дразнилкам. Мы были так потрясены и взволнованы, что просто молча разошлись по квартирам и закрылись в своих комнатах.
В этот раз на нас с Васильком напало то же благоговение, и мы в трансе побрели по своим углам обдумывать увиденное. И только вечером, собравшись после ужина с нашей стайкой на чердаке, мы были готовы поделиться тем великим открытием, которое должно было в корне изменить нашу войнушку с ребятами из второго подъезда в частности и нашу жизнь вообще. На чердаке не было ни одного даже самого малюсенького окошка, и беспросветную тьму освещало двенадцать свечек на потрясающей красоты подсвечнике, который Макарон как-то нашел на городской свалке. Взрослые часто выбрасывали всякие драгоценности и оставляли храниться веками разный хлам, что нам, детям, приходилось очень даже кстати. На той же свалке Макарон раскопал маленькие колокольчики и оленьи рога. Все это мы совместными усилиями прицепили на чугунный, размашистый, как дерево, подсвечник и навязали на него золотые цепочки с красными ленточками. Лялька Кукаразова точно бы позавидовала такой красоте.
На нашем чердаке было свалено столько всякой всячины, что там можно было бы прекрасно жить, если не обращать внимания на пролетающие клочья пыли, пауков, спящих вверх тормашками летучих мышей и нескольких привидений. Да, привидения там, конечно, тоже были, не зря же Василек не расставался с дуршлагом. Чердак не только являлся нашей штаб-квартирой, это было наше царство. Мы сидели на дырявых диванах, из которых торчали пружины, лежали на полусъеденных персидских коврах, приносили кипяток и рассыпной чай для скрипучего самовара и пили жгучую жидкость из фарфоровых чашек с отколотыми краями. И мы были совершенно неоспоримо самыми большими счастливчиками на свете.
Обычно на чердаках запрещалось копить всякий хлам, а в особенности бумаги, которых у нас хватало с избытком. Это было как-то связано с предотвращением пожаров, и мама при виде всего этого топлива в незначительном расстоянии от открытого огня точно упала бы в обморок. Но мне казалось, что наш чердак скрыт каким-то заклинанием, делающим его невидимым для всех людей за пределами подросткового возраста. Взрослые его не просто не замечали, они вообще не помнили о его существовании. Словно уже сама лестница, ведущая к чердаку, таилась под покрывалом-невидимкой.
Под серо-льняными полотнами на чердаке хранились невесть чьи башни документов, альбомов и книг. Когда мне вдруг становилось скучно, что вообще-то случалось крайне редко, я копался во всем этом, то и дело натыкаясь на что-нибудь интересненькое, хотя львиная доля всего этого богатства состояла из счетов, деловых писем и прочего занудства. И я искренне жалел о том, что это не я первый обнаружил альбом с фотографией бессмертной Ляльки Кукаразовой. Что не мое сердце билось во все более бешеном темпе по мере осознания своего невиданного открытия и торжества ситуации.
Пока эта история была тайной Василька и меня, но пришло время поведать о ней и остальным. Они уже заподозрили что-то по одним нашим важным лицам и сидели, затаив дыхание. Танцующий свет падал на лица Макарона, Гаврюшки, Пантика и прозрачного, как весенний ручей, Тимофея. Он единственный смотрел не на нас, а на пузатый самовар, отражающий полыхающие огоньки, и губы его произносили беззвучные слова.
«Дома он нарисует этот самовар таким, каким он его увидел, и это, как всегда, выразит суть всех самоваров на свете», – подумал я. Тимофей был странным ребенком. На улице его часто толкали или вовсе сшибали с ног, потому что просто не замечали эфемерного мальчика. Его волосы были цвета полнолуния, и хотя водянисто-ясные глаза всегда всматривались предельно внимательно в окружающий мир, их мало кто видел с высоты своего взора. Добравшись до какого-нибудь угла, Тимофей прятался в него, как призрак, и часами рассматривал голубей и бездомных собак. Шаги его были беззвучны, и я вздрагивал каждый раз, когда его невесомая рука опускалась мне на плечо. Единственным цветным в его облике были следы краски на худеньких пальцах, сквозь которые просвечивались сосуды – доказательство того, что он все-таки был не духом.
Тимофею было девять лет, но стоило ему произнести одно из своих немногочисленных слов, и я готов был поспорить, что ему не менее девяти веков. Он почти не говорил словами. Все, что он хотел сказать, он говорил красками на бумаге.
Я торжественно откашлялся и выпрямился.
– Сегодняшний день войдет в историю нашего двора, как тот день, который разделил время на до и после. На детские догадки и решительную детскую уверенность, на подготовку и настоящую битву, на игры и суровую реальность.
Чердак погрузился в гробовую тишину.
– Ты долго заучивал эту фразу? – наконец поинтересовалась Гаврюшка.
Я покраснел, что, к счастью, при нашем скудном освещении было не столь заметно.
– Вообще-то две фразы, – сказал я немного смущенно. – Но не в том суть дела. Вы хоть поняли, что я сказал-то?
– Пока не очень, – радостно отозвался Пантик и принялся протирать свои очки.
– Можно я? – зашипел рядом со мной Василек и, не дождавшись ответа, заорал: – Мы сегодня обнаружили старинный-престаринный альбом, в котором есть фотография, самая настоящая фотография Ляльки Кукаразовой! Она живет на свете уже примерно тысячу лет. Она колдунья!
Я с приливом нежности отметил, что он не стал заострять внимание на том, что нашел клад именно он. Для доказательства Василек швырнул на персидский ковер тот самый альбом, поднявший облако сверкающей пыли. К нему потянулись сразу четыре пары рук. Достался он Макарону, который обвил его своими длинными пальцами и быстро залистал страницы. Он скоро нашел, что искал, и три головы, склонившиеся над ним одновременно, ахнули. Тимофей недоверчиво покосился в их сторону.
– Офигеть! – восхищенно протянула Гаврюшка.
– Я это маме скажу! – радостно предупредил ее Василек.
– Это слово можно говорить.
– Нельзя.
– Ладно, молчи.
– Это что же это такое получается? – протянул ошеломленный Пантик. – Вы шутите?
– Нисколько! – ответил я довольно. – Вы хоть понимаете, что это значит?
Несмотря на всеобщий оцепенелый восторг, никто ничего толком пока не понимал.
– Это значит, что то, что хранится у Ляльки Кукаразовой в гостиной, испускает сладкий дым и розово-зеленый свет и привлекает толпы народу, является самой настоящей магической штуковиной! – пояснил я и почему-то начал ужасно волноваться.
– Почему это? – сморщил лоб Макарон.
– Ну как почему? – возмутился я. – Раз она бессмертная колдунья, значит, у нее должно быть какое-то непостижимое сокровище! Все эти люди только для того и приходят, чтобы хоть недолго побыть с ним рядом…
– Моя мама говорит, что эти люди приходят, потому что Лялька Кукаразова последняя ш…
– Спасибо, Василий! – грозно перебила его Гаврюшка. – И что же это такое, рядом с чем хочется побыть хоть недолго? – обратилась она ко мне.
Я пожал плечами.
– Ну, я пока, ясное дело, ничего толком не знаю. Вот в этом-то и состоит теперь наша задача. Наша совместная задача… – Я набрался мужества и продолжил: – Наша совместная задача с ребятами из второго подъезда.
Как я и ожидал, начался страшный переполох. Оживился даже Тимофей и вылупил на меня свои пронзительные глаза.
– Да подождите вы! – закричал я громче всех и замахал руками. – Дайте мне высказаться!
– Ну, слушаем, слушаем… – строго буркнула Гаврюшка и скрестила руки на груди.
– Если мы забросим нашу пока в принципе бессмысленную, если уж говорить откровенно, войнушку и пустим все силы на разгадку тайны Ляльки Кукаразовой и ее волшебной вещицы, то второподъездники, несомненно, что-то заподозрят. Кто считает Борьку Заразкина дураком, поднимите, пожалуйста, руки.
Все руки, кроме моей, устремились к потолку.
– Дураком, в смысле тупым, – вздохнул я.
Руки не опускались.
– А вот очень даже зря! Он совсем не дурак! И в стайке его есть очень неглупые мальчишки, как всем нам хорошо известно. Да и Машка эта с головой вроде дружит.
Гаврюшка насупилась. Я сделал вид, что не заметил.
– Что нам работать против них, если можно работать с ними удвоенными силами?
– Ты предлагаешь объединиться? – в ужасе проговорил Макарон.
– Нет, не объединиться, – разнервничался я, – а объявить бой за одну и ту же цель.
– Но зачем? – спросил Пантик с искренним недоумением.
– Чтобы быстрее двигаться к этой самой цели.
– А зачем нам быстрее двигаться к цели?
– Чтобы второподъездники не выяснили раньше нас важную информацию и не обошли нас стороной.
– А если ты сам им расскажешь важную информацию, это будет лучше? – покачала головой Гаврюшка.
– Мы установим четкие правила, как на войне…
– На войне нет правил, на то она и война.
– Хорошо, в нашей войне будут четкие правила. Мы все обговорим и разложим по полочкам.
– Зачем?! В сотый раз, Воробей, зачем?
Вдруг я понял, что запутался и не могу ясно и доходчиво изложить свои мысли. Даже самому себе. Я расстроился.
– Знаешь, что мне кажется? – строго спросила упертая Гаврюшка. – Мне кажется, что ты только говоришь, что игры закончились. На самом деле тебе безумно хочется очередной игры.
Я опустил взгляд на свои колени в продырявленных джинсах. Василек нервно ерзал рядом со мной на диване. Он явно не совсем понимал, о чем тут вообще велся спор. Меня тихо грызло чувство неполноценности, потому что я, как вожак, не мог предъявить своей стае конкретный, придуманный план действий, и Гаврюшка это сразу пронюхала.
– Почему ты не можешь быть просто честным, Воробей? – снова послышался ее голос, и мне захотелось зарыться среди вонючего поролона и пружин дивана. – Почему ты не можешь просто признаться, что тебе хочется игры?
Я удивленно поднял взгляд и посмотрел на нее, ухмыляющуюся.
– Ну, давай, скажи громко и ясно: я хочу сыграть в самую головокружительную, сумасшедшую, незабываемую игру на свете! Пусть у нее будет жутко серьезная цель. Но я хочу игру! Давай говори!
И я понял, что это чистая правда и что не надо было никаких оправданий и отговорок. Я приложил правую руку к сердцу и повторил все до единого слова. Потом мы сели все в круг на персидский ковер и положили наши руки одна на другую.
– Да будет игра, и да победит отвага! – грянули мы хором, так что с потолка под нами сахарной пудрой посыпалась штукатурка.
Потом Василек задул свечи, а Пантик обхватил руками Макарона за шею, чтобы тот снес его по лестнице к коляске. Гаврюшка подставила мне руку и одной улыбкой и светящимися глазами сказала «Дай пять!», а Тимофей растворился в остывающем дыме двенадцати свечей.
Перед сном я долго сидел в пижаме на подоконнике, рассматривал крыши и звезды в подзорную трубу и слушал звенящие мелодии, доносящиеся до меня прямо с небес.
– Джек, Джек, – приговаривал я шепотом, – надеюсь, ты видишь, какая буря тут назревает. Лети, лети, Джек, лети до горизонта и обратно. Лети к розовым облакам, а потом все дальше, дальше, к синим тучам и тихим далям. Лети к далеким морям и океанам, передай там привет моему папе. Лети. Но возвращайся иногда ко мне. Не забудь иногда возвращаться ко мне, Джек.
Мама Воробья
Она сидит у открытого окна и теребит сигарету в пальцах с розовыми ногтями. Каштановые волосы падают ей на плечи крупными волнами. На ней строгая бордовая кофта и не менее строгое, но еще и запуганное выражение лица. На плите варится картошка, а из детской доносится Шопен.
(Глубоко вздыхает.) Ну… А как вы думаете? Полагаю, каждой матери-одиночке сложно. Встаешь ни свет ни заря, собираешься наспех и перекусываешь, долго будишь ребенка, делаешь ему завтрак. Ребенок говорит, что ему плохо и что он не может идти в школу, ты ругаешься, но уходишь, потому что надо уже бежать на работу, вся на нервах мчишься к метро… Вот начало дня…
Потому что… Потому что он хорошо учится, даже если не ходит в школу, где его приступы усугубляются. Приходится ложиться в больницу. Думаете, у меня на такое развлечение есть время? Отец его как пропал, так и не заплатил ни разу ни гроша. (Нервно затягивается и украдкой смотрит на дверь.) Вот такие они, мужики. Все оставил, ничего с собой не взял. Наверное, посчитал, что это очень благородно с его стороны. А сын его несчастный каждую принадлежавшую ему ерунду хранит, как сокровище. Знал же, что ребенок больной! Ну как так, скажите, пожалуйста! Как так можно? (На глаза наворачиваются слезы.) Я целыми днями кручусь в этом офисе как белка в колесе и думаю постоянно о том, как бы сыну не стало плохо. Чем он там занимается? А когда прихожу вечером, вся измотанная, еще и убраться надо, ужин приготовить… А после всей этой суматохи даже сил нет с ребенком поговорить. (Утирает слезы.) Так и живем с ним рядом, но не вместе.
Откуда мне знать? Сволочь потому что. Мужества не нашлось, чтобы сказать, в чем дело. Были, конечно, проблемы, что уж лукавить… Да и ладно, если бы это касалось только нас обоих. Но ребенок-то! Каково же ребенку? Понять, что отец его просто взял и пропал. Даже попрощаться с сыном времени не нашел. Я уже подумывала написать ему письмо – якобы от папы. Но вовремя не решилась, побоялась, закрутилась… Поначалу он еще плакал, спрашивал, что случилось, где папа. А потом закрылся в себе, и всё.
А что мне было ему сказать? Что папаня его к какой-нибудь малолетней дуре удрал? Я-то не знаю точно, но что еще думать? Объяснила лишь в общих чертах, что иногда получается так, что мамы или папы решают уйти, и всё.
Не знаю, что конкретно он понял. Сначала кивал. Потом и вовсе перестал спрашивать. Мне так легче, если честно. Ну, что я ему скажу?
Пытались, пытались искать. Не нашли. Но я-то для себя знаю, что ничего такого с ним не случилось. В то утро… В то утро я нашла записку, прикрепленную к зеркалу. «Прости. Поверь, так надо». Вот какой цинизм бездонный. Так надо и еще и прости. Прости меня уж, что бросаю тебя с ребенком на произвол судьбы. Но так надо. (Тушит сигарету в пепельнице и машет руками в воздухе.) Как после такого еще мужчинам доверять, скажите мне, пожалуйста? Он и так больному ребенку и психику в добавок искалечил. Знаете… Не хотела сначала говорить, но теперь уж скажу. Знаете, почему он больше не спрашивает, где его папа? Потому что он сам себе какую-то фантастическую историю придумал. Папа в ней просто герой! Можете себе представить, как это больно? Когда этого козла с сердцем изо льда, который вам душу всю искромсал, почитают героем? А я для него кто? Да, мы с ним тоже нечасто общаемся, но я все-таки здесь. Я же не предавала его! (Музыка в детской затихает, и она испуганно бросается умываться в раковине. На кухню заходит худощавый мальчишка с озабоченным лицом.) Воробышек, иди еще позанимайся, миленький.
В.: Мам, ты плачешь?
М.: Нет, это так просто…
(Мальчик грозно смотрит на нас и медленно уходит.)
Да… Ну вот так вот… Видите, даже спокойно поплакать нельзя. Надо быть железной леди до самого конца. Надоело все это. Надоело. Так хотелось быть нежной, слабой женщиной. Женой и мамой, которая гладит всех по головкам и варит борщи. Так много всего хотелось… (Задумчиво смотрит в окно.) А потом ты крутишься на адской работе, на которой тебя не ценят, и в промежутках драишь полы в доме, в котором ты никому не нужна… Да, ничего у меня не получилось в этой жизни. Ни мужа удержать, ни построить доверительные отношения с единственным сыном. Вот так вот. (Резко поворачивается.) Вы довольны? Это вы хотели слышать?
Глава 2
Вольные птицы
– Э-ге-гей! Воробей!Он всех краше и сильней!Не дурак и не злодей!Всех умней и всех бодрей!Э-ге-гей! Воробей!Бей ты двушников сильней!Громогласные песни Василька, свирепствовавшего внизу посреди двора, доносились до самой крыши. Они, несомненно, доносились и до самих двушников (так мы иногда называли наших соперников из второго подъезда), но всерьез разозлиться и излупасить мелкую шестилетку они не могли. Это нанесло бы убийственный ущерб их репутации. У Василька был непревзойденный поэтический дар, и все мы надеялись, что он прославится на всю страну, как только подрастет до таких размеров, чтобы его было видно на сцене.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.