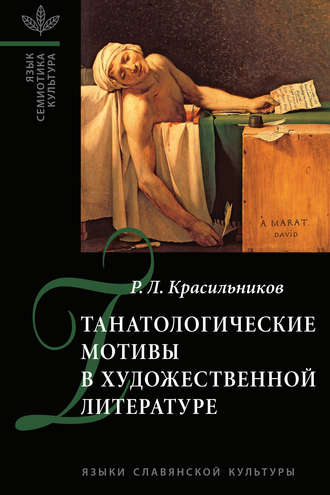
Полная версия
Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию.
Тем не менее сегодня в научном сообществе термин «Танатос» связывается с концепцией не В. Штекеля и не С. Шпильрейн, а З. Фрейда. Он в работах «По ту сторону принципа наслаждения» (1920) и «Продолжение лекций по введению в психоанализ» (1933) изменил свою раннюю теорию о существовании сексуальных и эгоинстинктов в пользу теории о разделении всех первичных позывов на иные две группы – смерти и жизни. Влечение к смерти – это бессознательное стремление любого организма к неорганическому, «исходному состоянию». Влечение к жизни – бессознательное стремление «обеспечить организму его собственный путь к смерти» [Фрейд 19946: 59–60], при помощи сексуальных инстинктов и инстинктов самосохранения воспрепятствовать сиюсекундному самоуничтожению индивида. В результате взаимодействия и борьбы этих типов влечений «возникают явления жизни, которым смерть кладет конец» [Фрейд 1989: 366], иначе – судьба организма. Если совокупность энергии жизни (прежде всего сексуальной) называли «либидо», то совокупность деструктивной энергии некоторые психоаналитики, например П. Федерн, обозначали терминами «деструдо» или «мортидо» [Райкрофт 1995: 40, 91].
Указанные типы влечений в совокупности образуют бессознательное человека, интенцией которого является достижение «принципа наслаждения». Суть культурологической концепции З. Фрейда заключается в том, что «принцип реальности», формируемый общественными установками, в том числе и культурой, не просто заглушает эротические позывы индивида посредством сублимации, но и контролирует позывы к смерти, способные негативно сказаться на окружающих.
Таким образом, чисто терапевтическая направленность психоанализа сменяется философско-культурологической концепцией, оправдывающей существование культуры. Не случайно З. Фрейд термину «инстинкт» предпочитал термин «влечение» (Trieb): «Влечение, в отличие от физиологического механизма инстинкта, есть некая психическая данность. Мы испытываем какое-нибудь влечение, не зная в точности о его причинах; механизм инстинкта становится нам известен в результате объективного познания. Иначе говоря, влечение есть репрезентация биологического процесса в психике, оно лежит между внесознательными физиологическими процессами и осознаваемым желанием или волевым актом. Бессознательное выступает как биологически детерминированное основание сознания, но, в отличие от чисто природного процесса, оно наделено смыслом, доступно для интерпретации (тогда как природный процесс требует не толкования, а каузального объяснения)» [История философии 1998: 197]. Следовательно, влечение можно рассмотреть как бессознательную область духа, а Танатос и Эрос – как онтологические категории. Психоанализ универсализировал эти категории, увидев в них основу человеческого бытия и его культурных воплощений. Более того, психоанализ дал посыл к поиску этих категорий в дискурсах, которые ранее считались абсолютно «прозрачными».
Одним из таких дискурсов, благодатных для психоанализа, стало мировое искусство, в частности мировая литература. Танатологические мотивы здесь интерпретируются психоаналитиками прежде всего как проявление индивидуального авторского бессознательного, его неврозов и потаенных стремлений. Данный подход отличается высокой степенью допущений, недоказанных гипотез, поэтому более продуктивным оказалось исследование коллективного бессознательного, расшифровка вневременных образов, мотивных схем и символов, восходящих к мифологии и фольклору.
Расшифровка символов культуры интересовала и З. Фрейда, в своих работах обращавшего внимание на значения снов, мифологических и фольклорных произведений. Однако лидером данного направления считается К. Г. Юнг, разработавший систему архетипов, «определенных форм в психике, которые распространены всегда и повсюду» [Юнг 2007: 12]. Коллективное бессознательное содержит в себе различные первообразы, тесно связанные с проблемой смерти, прежде всего архетипы Великой Матери и Тени, обозначающие хаотическое начало в природе и человеке.
Идеи К. Г. Юнга были развиты в русле мифологической школы, изучавшей устойчивые образы и мотивы (мифологемы), отражающиеся в культуре и восходящие к коллективному бессознательному. Такие представители этого направления, как Дж. Фрэзер, В. Топоров, Е. Мелетинский, Н. Теребихин, С. Телегин, внесли большой вклад в осмысление танатологических элементов в мифологии, фольклоре, литературе, языке, сакральной географии (образов моря, острова мертвых, мотива драконоборства, эсхатологических мотивов и пр.).
Фрейдизм, юнгианство и мифологическая школа схожи в том, что признают существование бессознательных фундаментальных интенций, влияющих на человека и на продукты его деятельности. Одной из этих интенций считается влечение к смерти (Танатос), ставшее первым объектом гуманитарных танатологических исследований. Изучается данное влечение с помощью психоаналитических средств, т. е. набора интерпретационных практик, включающих смерть в круг специфических семантических «сценариев»: комплексов, архетипов, мифологем и пр. Важно отметить также, что понятие «Танатос» шире понятия смерти: оно представляет собой все многообразие деструктивных тенденций в человеке, которые необязательно приводят к кончине, но обусловлены ее горизонтом.
Интерпретационные психоаналитические практики позволяют лучше понять смысл памятников культуры, воспринимая их как знаковые системы. Следовательно, гуманитарную танатологию, в отличие от естественнонаучной, интересует не сама смерть, а ее знаки. Ю. Лотман указывает, что, только превратившись в «формализованный набор средств», идея смерти отделяется от «первичного ряда своих значений» и становится «одним из универсальных языков культуры» [Лотман Ю. 1994: 422].
Таким образом, пустота и тайна смерти как референта в культуре нивелируется. Человек и общество способны заполнить эту лакуну новыми смыслами, переносными метафорическими значениями. На первый план выходит не смерть, а ее понимание, представление о ней, отношение к ней. В исторической антропологии отношение к смерти считается «одним из коренных “параметров” коллективного сознания». Примечательно, что, как и в психоанализе, этот феномен, являясь частью ментальности, характеризуется изначальной «неосознанностью или неполной осознанностью» [Гуревич А. 1992: 6–7]. Задачей науки становится рационализация данного объекта исследования.
Отношение к смерти, идея смерти определяются как объект исследования и в современных танатологических диссертациях. Словно отвечая на радикализм К. Исупова, Д. Матяш утверждает: «Специфика философского изучения темы “смерть” состоит в том, что смерть не может рассматриваться ни как проблема, ни как феномен. Предметом философского анализа выступает отношение к смерти» [Матяш 1997: 13]. Т. Мордовцева рассматривает в своей работе «целостный культурный образ смерти, ее идею, сущность…» [Мордовцева 2004: 3].
По-видимому, менее радикальными стали взгляды и К. Исупова. Напомним, что в энциклопедии «Культурология. XX век» он характеризует танатологию как «философский опыт описания феномена смерти» [Культурология 1998,1: 245]. Так термин получил новое, довольно неожиданное значение, закрепленное Г. Тульчинским в «Проективном философском словаре»: танатология – «одна из главных тем персонологии» [Тульчинский 2003: 392]. Подобно психологии или синтаксису, данное понятие стало обозначать не только саму научную дисциплину, но и объект ее изучения. Значит, танатология – это наука о танатологии?
Возможность такого двойственного толкования, очевидно, заложена в самом слове «танатология»: ведь его можно расшифровать и как «слово о Танатосе», и как «наука о Танатосе». Принимая справедливые замечания Исупова об описательности дисциплины, второе словосочетание можно усложнить – «наука о слове о Танатосе». Но более корректным выглядит совмещение первого и второго определений ученого: танатология – это наука об опыте осмысления феномена смерти.
Понятие «опыт» касается и формальной, и содержательной стороны танатологических знаков. Опыт – это совокупность переживаний, создающих представление о предмете; это преодоление методологической дистанции между субъектом и объектом, в результате чего отрефлексированные характеристики объекта входят в картину мира субъекта. По сути, опыт – это познание, сопряженное с процедурами интроспекции, эмпатии, понимания и объяснения.
И в то же время это результат познания, личностное знание, «знание конкретного субъекта, представляющее собой определенную содержательную систему» [Суворова 1999: 49].
О. Суворова в статье «Личностное знание о смерти: пути формирования, смысл и значение» выделяет три группы факторов, детерминирующих формирование представлений о личной смерти. Во-первых, «к их числу следует отнести общие основания становления всего неявного знания, корни которого, как показал М. Полани, – в являющемся фоном для сознания периферическом осознании тела, используемого человеком как инструмент во всех его делах с миром» [Там же]. Во-вторых, «такого рода неявные знания оказываются тесно связанными с осознаваемыми содержательными представлениями о смерти. Важным фактором формирования последних можно считать опыт встречи со смертью другого, общение с умирающим». Наконец, «необходимость усвоения факта неизбежности смерти, “примирения” с этой наиболее сложной загадкой бытия собственно и обусловила то обстоятельство, что тема смерти и посмертной судьбы человека заняла одно из важных мест во многих сферах общественного сознания, в первую очередь в религии, а также в искусстве, литературе, философии, предлагающих разнообразные объяснения смерти и соответствующие символические формы, обеспечивающие возможность опредмечивания смерти, превращения ее в феномен культуры, включения образов смерти в контекст культурного развития» [Там же: 53–54].
Перспективным, а иногда и единственно возможным, является изучение именно последнего фактора формирования представления о личной смерти – репрезентации танатологических элементов в культуре. Безусловно, речь идет не только о философской традиции, как пишет К. Исупов. Ведь из истории танатологии известно о психоаналитических, психологических, религиоведческих, литературоведческих, историко-антропологических танатологических штудиях. Следовательно, танатология – это наука об общекультурном опыте осмысления феномена смерти.
Возможность объединения исследований из различных наук в единую сферу танатологии может вызывать у кого-то сомнения, как вызывает сомнение существование такого междисциплинарного феномена, как культурология. Но доказательства есть. Во-первых, это апелляция представителей одних наук к другим: например, историк Ф. Арьес указывает, что использует в своей книге идеи философа В. Янкелевича [Арьес 1992: 495]. Во-вторых, декларируемая междисциплинарность танатологических исследований. В-третьих, постепенно формирующийся специфический терминологический аппарат: «Танатос», «влечение к смерти» (В. Штекель, З. Фрейд), «смерть прирученная», «смерть своя», «смерть твоя» (В. Янкелевич, Ф. Арьес), «смерть извне», «смерть изнутри» (М. Бахтин), «танатопоэтика» [Hansen-Löve 1993], «художественная танатология» [Семикина 2002], «танатэротика» [Высевков 2000], «танатография» [Танатография Эроса 1994] и др. Примечательно, что указанные понятия охватывают уже не только семантическую, но и структурную сторону танатологических знаков.
Вместе с тем очевидно, что общекультурный опыт осмысления смерти – это очень широко понятый объект исследований. Несмотря на сближение наук, происходит постоянный процесс типологизации танатологических элементов, что приводит к диверсификации объекта. Различные виды смерти в природе: смерть от болезни или несчастного случая, убийство, самоубийство – предполагают различное их восприятие в культуре. А ведь есть еще и «паратанатологические» феномены: похороны, скорбь, рефлексия о смерти или посмертном существовании. Объект исследования диверсифицируется, появляются разделы танатологии, о которых настало время поговорить.
* * *Дисциплины-компоненты, входящие в структуру танатологии, должны заниматься частными вопросами, обусловленными различными аспектами объекта / предмета изучения или методологией исследования. Одна дифференциация танатологического знания уже была предложена: это условное деление на естественнонаучную и гуманитарную танатологию, а внутри данных групп на предметные области – медицинскую, психологическую, философскую, историко-антропологическую, культурологическую, литературоведческую, искусствоведческую и пр.
Другая классификация обусловлена природой смерти. На поверхности лежит разграничение насильственной и ненасильственной смерти. Ненасильственная смерть при всем ее многообразии всегда «приходит сама» в виде кончины от старости, или болезни (такую смерть называют естественной), или несчастного случая. В ней не заложено активное действие со стороны человека, а если окружающие спрашивают о более глубокой, онтологической причине кончины, то таковыми считаются природа или Бог. Насильственная смерть предполагает активность человека, причиной смерти служит он сам. В зависимости от направления деструктивного действия на себя или на других выделяются самоубийство и убийство. Эти два типа насильственной смерти имеют в культуре свои традиции восприятия и изучения.
Если общими вопросами умирания и смерти, прежде всего ненасильственной, занимается собственно танатология, то феномен самоубийства изучается суицидологией. Конечно, отделить суицидальный акт от проблемы смерти невозможно: самоубийство – это форма разрешения безусловности человеческой смертности, доказуемая через добровольный уход из жизни. Многие писатели-философы, например Дж. Донн или А. Радищев, отстаивали право человека на суицидальный акт как крайний способ борьбы за свое достоинство против тирании государства и даже Божественной предопределенности (см. [Суицидология 2011]). Вместе с тем, наряду с мотивом, самоубийство ставит перед человеком именно танатологические вопросы: что такое смерть, что будет после нее, предопределен ли мой последний шаг. Интересно, что А. Камю считал, что «есть лишь один поистине серьезный философский вопрос – вопрос о самоубийстве» [Камю 2001: 8], в то время как многие мыслители определяли сущность философии как «размышление о смерти» (см. выше).
Несмотря на то что встречаются суицидальные акты у животных, самоубийство считается чисто «антропологическим явлением» [Трегубов 1993: 3]. Будучи человеческим феноменом, а не общеприродным, оно несет в себе следы человеческого целеполагания и общественных обстоятельств, поэтому легче поддается научным изысканиям.
Одним из основоположников научной суицидологии считается Э. Дюркгейм, который в работе «Самоубийство. Социологический этюд» (1897) описал социальные и внесоциальные факторы суицида, дал первую типологию актов такого рода (эгоистический, альтруистический, аномичный) [Дюркгейм 1994][12]. В данной книге суицид рассматривался с социологической точки зрения, и в дальнейшем этот подход (наряду с психологическим) стал основным в суицидологии. В самоубийстве всегда видели некую патологию, аномалию, отклонение, обусловленное потрясениями общества и личности.
Психологический подход к самоубийству развивал К. Меннингер в книге «Человек против самого себя» (1938). Последователь З. Фрейда, он уделяет особое внимание инстинкту смерти как одному из ведущих влечений в человеческой психике [Menninger 1938: 5] и характеризует такие типы самоубийств, как собственно самоубийство, хроническое (аскетизм, мученичество, неврастения, алкоголизм, антисоциальное поведение, психозы), локальное (членовредительство, симуляция, преднамеренные несчастные случаи, импотенция, фригидность) и органическое (соматические заболевания).
В 1968 г. в книге «Теория суицида» М. Фарбер продолжает разработку общей суицидальной концепции. Он предлагает формулу расчета вероятности самоубийства: S = f (V, D), где S – вероятность самоубийства, f – функция, V – повышенная ранимость, D – масштаб общественных лишений [Färber 1968: 10]. Как видим, социологические и психологические исследования в данной области, с одной стороны, ориентировались на общие танатологические концепции (фрейдистская теория влечений), с другой – прибегали к методам точных наук, в частности к созданию формул и измерению (статистические данные, психологические тесты и др.).
Главной задачей суицидологии становятся меры по предотвращению самоубийств. В 1968 г. создается Американская ассоциация суицидологии (www.suicidology.org), организуются центры превенции суицидов. Основной идеолог этого движения Э. Шнейдман (как писалось выше, еще и первый профессор танатологии) в своих работах рассматривает самоубийство как один из «традиционных видов смерти» [Шнейдман 2001: 51]. Он описывает ключевые характеристики суицидальной ситуации, приводит примеры из собственной психологической практики, интересуется случаями из художественных произведений, в частности Г. Мелвилла [Shneidman 1973: 161–177]. Э. Шнейдман замечает: «Тема самоубийства пронизывает нашу литературу, занимает особое место в нашей культуре» [Шнейдман 2001: 123], – и тем самым переводит данную проблему в общекультурную плоскость.
Феномен самоубийства серьезно изучался и изучается российскими исследователями. Н. Бердяев в очерке «О самоубийстве» (1931) отмечает эпидемиологический характер суицида: «Самоубийца имеет дело не только с самим собой и насильственное уничтожение собственной жизни имеет значение не только для него одного. Самоубийца вызывает роковую решимость и в других, он сеет смерть» [Бердяев 1992: 5]. Он характеризует церковное отношение к суицидальному акту, размышляет о совмещении в нем смерти, способной стать «путем к спасению», и убийства, которое есть «чистое зло и самое страшное зло» [Бердяев 1992: 13].
В конце XX – начале XXI вв. в России вышло довольно много трудов, посвященных самоубийству. Л. Трегубов и Ю. Вагин в книге «Эстетика самоубийства» (1993) утверждают, что «самоубийство как один из аспектов человеческого поведения может быть (…) не только эстетичным вообще, не только трагичным, ужасным, безобразным и т. д., но и прекрасным» [Трегубов 1993: 46]. Они доказывают эту мысль на примере различных суицидальных актов, как индивидуальных, так и ритуальных.
И. Паперно в фундаментальном труде «Самоубийство как культурный институт» (1999) рассматривает суицид как «факт культуры» и «историческое явление». Автор не стремится объяснить, «почему люди кончают жизнь самоубийством», описать «феноменологию самоубийства», но посвящает свою работу «исследованию процесса осмысления человеческого опыта». Примечательно, что, как и в случае со смертью, самоубийство объявляется «роковой тайной», а объектом изучения – «человеческий опыт» [Паперно 1999: 5–6]. И. Паперно анализирует «отношение к суициду» в различных парадигмах: мировоззренческих (народные верования, церковь, источники личного происхождения), исторических (античность, Новое время), национальных (Европа, Россия), профессиональных (медицина, философия, социология, право, литература).
Объект суицидологии – феномен самоубийства – определяется учеными в одном ключе. Э. Дюркгейм относит к суицидальному акту «каждый смертный случай, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах» [Дюркгейм 1994: 13]. М. Фарбер называет самоубийством «сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни» [Färber 1968: 20], С. Аванесов – «сознательное, добровольное и целенаправленное достижение человеком смерти, осуществленное собственными силами» [Аванесов 2000: 17]. Таким образом, определяющими характеристиками суицида являются «сознательность», «намеренность» и «быстрота». Г. Чхартишвили в книге «Писатель и самоубийство» (2000) пишет: «Самоубийцей нельзя считать кита, выбрасывающегося на берег, так как его действие бессознательно. Как страстный и фанатичный христианин, совершить намеренное самоубийство не мог Гоголь, заморивший себя голодом во время Великого поста. Наконец, качество “быстроты” отличает суицид от суицидального поведения, которому подвержено большинство людей, чья профессия сопряжена с риском» [Чхартишвили 2000: 20].
Самоубийство в подавляющем большинстве религий считается самым страшным грехом, так как в нем нельзя покаяться. Как и в убийстве, тут присутствуют два элемента: субъект и объект, но они совмещены в одном сознании. Современные психологи отмечают, что «ощущение бессмертности нередко выступает как компонент переживания самоубийства» [Паперно 1999: 13].
Изучение убийства как феномена культуры не привело к созданию специального танатологического направления. В силу своей отрицательной смысловой нагрузки оно не получило развития в философской мысли. Не создана еще фундаментальная работа, наподобие книг Ф. Арьеса, М. Вовеля или И. Паперно, по проблеме восприятия убийства в истории ментальностей. Криминология является пока лишь юридической дисциплиной с особой практической методологией. Тесно связана с проблемой убийства теория агрессивности (агрессология), характеристику которой можно найти в «Анатомии человеческой деструктивности» (1973) Э. Фромма. Он выделяет два основных направления в объяснении агрессивности: инстинктивизм (З. Фрейд, К. Лоренц) и бихевиоризм (А. Басс), спорящие о наследственной или приобретенной сущности деструктивности по отношению к другим людям [Фромм 1994: 74]. Э. Фромм отмечает, что необходимо различать виды агрессии: «биологически адаптивную», «способствующую поддержанию жизни», «доброкачественную» и «злокачественную», «не связанную с сохранением жизни» [Там же: 163]. Именно «злокачественная агрессия» приводит к уничтожению человеком себе подобных, другими словами – к убийству. Э. Фромм описывает ее подвиды: «садизм (страстное влечение к неограниченной власти над другим живым существом)» и «некрофилию (страсть к разрушению жизни и привязанность ко всему мертвому, разложившемуся, чисто механическому)» [Там же: 24]. С помощью этой терминологии немецкий исследователь характеризует исторических деятелей – Сталина и Гитлера.
В природе агрессии пытается разобраться и российский ученый А. Назаретян. В книге «Антропология насилия и культура самоорганизации» (2007) он связывает агрессию с проблемой всеобщей конкуренции: «Всепроникающая конкуренция за утверждение собственного существования издревле обозначалась философами как “война” (Гераклит), “мука материи” (Я. Беме), “воля к власти” (Ф. Ницше), “борьба организационных форм” (А. А. Богданов) и т. д.» [Назаретян 2007: 17]. А. Назаретян рассматривает исторические формы насилия и культурные механизмы контроля над агрессивными импульсами. В то же время в теории агрессивности нет акцента на осмыслении феномена убийства.
Убийство в человеческой культуре всегда осмыслялось с этической точки зрения – как преступление. Через умерщвление другого человека своих героев проводили, например, А. Пушкин в «Евгении Онегине» или Ф. Достоевский в «Преступлении и наказании». Очевидно, что убийство меняет человеческую сущность, как и самоубийство, но, в отличие от последнего, оставляет следы человеческой рефлексии, дает возможность понаблюдать за действующим со стороны.
Убийство также связано с таким видом человеческой деятельности, как война. Существует специальная дисциплина, изучающая психологические, социально-политические и другие аспекты данного феномена, – полемология (за рубежом используется также название war studies). В России эта тема являлась предметом исследования на чтениях в Выборге и Санкт-Петербурге, где историки, культурологи, литературоведы и пр. обсуждали различные виды источников (военная корреспонденция, мемуары, мемориалы), особенности исторических и этнических представлений о войне и т. д. [Мир и война 2005; Хронотоп войны 2007].
Из других наук, соотносимых с танатологией, следует назвать тафологию, которая, согласно книге В. Багдасаряна и А. Гришкова «История погребальной культуры: танатологическая семантика» (2003), изучает «все аспекты погребальной онтологии». Исследователи отмечают возможность введения в научный обиход и таких терминов, как «тафосфера» и «моросфера»: «Ступень перехода от биосферы к тафосфере, т. е. в область самой смерти, охватывающей временной период распада органических соединений, обозначается термином моросфера (от греч. морос – смерть)» [Багдасарян 2003]. В. Багдасарян и А. Гришков описывают различные периоды в истории погребальной культуры, указывают на переломный момент в ее развитии, случившийся в XVIII в. в связи с началом ее десакрализации [Там же: 143].
Примечательно, что, разрабатывая тафологические проблемы, авторы в названии книги подчеркивают, что находятся в области танатологии. Таким образом, история погребальной культуры вполне вписывается в науку о смерти вообще.
Вопросами ситуации после смерти интересуется еще одно танатологическое направление – иммортология, изучающая представления людей о бессмертии. Основателем иммортологии как научной дисциплины считается российский философ И. Вишев, который разрабатывает концепцию практического бессмертия человека. Свои идеи ученый основывает на анализе работ русских философов: К. Леонтьева, Н. Федорова, В. Соловьева, С. Булгакова, Н. Бердяева и др. В книгах И. Вишева подчеркивается связь иммортологии с виталогией (учением о жизни) и танатологией [Вишев 2005: З][13].

