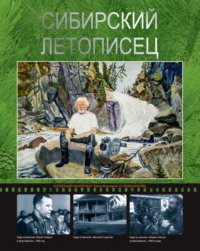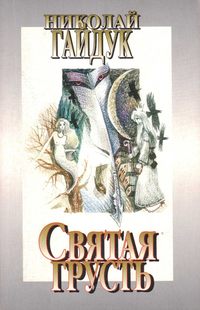Полная версия
Царь-Север
Никогда ещё так остро, как теперь, после рождения сына – болезненно так не думал Храбореев о деньгах: «Марью надо подлечить! Может, родит ещё парнишку или девку. Врачи говорили, в Москве можно капитально здоровьишко поправить. Были бы деньги, чёрт их подери! Где взять?»
И Храбореев пустился на браконьерство.
Раньше он и слушать не хотел о самоловных крючках – орудие варвара, который не столько ловит рыбу, сколько гробит; большая часть её срывается с крючков и погибает. А теперь он связался с какими-то матёрыми мужиками, которые спокойно всё дно реки обтыкивали такими самоловами – рыбе негде пройти. Новые дружки его не гнушались ни мелкой сетью, ни бреднем, ни тротиловой шашкой. Но всё это богатство – плотва, налим и щука, окунь, белый да красный карась – это богатство речной и озёрной воды. А сколько добра по лесам – по знаменитым тульским засекам – среди неохватных дубов и раскидистых клёнов, среди могучих ясеней, ильмов. Там тебе и волки, и лисицы, кабаны и лоси, выдры, зайцы, белки, чёрная норка, канадский бобёр… Там не только глаза разбегаются, там горячее сердце охотника в груди разбегается так, что пьянеешь на этих тульских засеках.
Промышляя тёмными ночами, Антоха ощущал в себе невиданный азарт контрабандиста, но угрызения совести не было; не для себя старался, для семьи – святое дело. Эти дармоеды, кто пристроился в тёплых конторах, они-то своим семьям обеспечили достойное житьё – у них зарплаты выше крыши, привилегии. А если разобраться: что у них – пять рук, две головы? Что они – работают по тридцать пять часов без перекура? Да ни черта подобного! Пристроились к жирной кормушке, к хорошей зарплате, а тут как хочешь, так и вертись… Ну, вот он и вертелся. Таскал пудами рыбу; вёдрами тягал красную и чёрную икру. Мясо, шкура зверя – всё шло на продажу.
И деньги вскоре потекли к нему – зазвонистыми ручейками. Радовался, руки алчно потирал. Никогда ещё он не ворочал такими шальными деньжищами. Купил себе охотничий малокалиберный карабин – легкий, простой и надёжный, о котором мечтал много лет. Купил легковушку, правда, не новую, с пробегом, но ещё хорошую, с половины оборота «бьющую копытом». Гараж построил; дом обставил – на загляденье. Через армейских друзей справки навёл о старшине Ходидубе, о том, что любил повторять: «Успокойся, Нюра, это десантура». Ходидуб служил в Московском военном округе – лейтенант.
Храбореев – не с пустыми руками – смотался в Москву, встретил «ходячего дуба» и заручился поддержкой; взял адреса, телефоны. В столичной клинике договорился, чтобы Марью обследовали. Всё отлично складывалось. Он вернулся домой, и опять воровскими тёмными ночами где-то мотался, вертелся вьюном на озёрах, на реках. В глубине души осознавал: пора завязывать, а то уже дело стало попахивать порохом – то ли егерь, то ли рыбнадзор тёмной ночью стреляли в него.
И он уже хотел затормозить. Думал, вот-вот, ещё чуток озолотится – и шабаш. Но денег много не бывает – люди верно подметили. Не мог остановиться Храбореев. Рвал и метал, как чумной. И остановился только тогда, когда случилось непоправимое…
5Однажды поздней осенью мальчик проснулся в доме и никого не обнаружил рядом. Родители отлучились куда-то. Продрав глазёнки, мальчик вздохнул, но не сильно расстроился. Во-первых, он – самостоятельный «мужик» (отец внушал). А во-вторых, под боком у него надёжный друг – белоснежный «северный медведь» (Подарок Никанора Фотьяновича из Мурманска).
Плюшевый медвежонок имел в груди какое-то хитроумное приспособление – басовито рычал. В пластмассовых глазах крутились чёрные зрачки, похожие на пуговки. Медвежонок казался живым, настоящим.
– Северок! – сказал мальчик, зевая. – Доброе утро!
– Привет! – басовито рыкнул медвежонок с левым надорванным ухом, с коричневой подпалиной сзади.
Подпалина эта – и смех и грех! – появилась, когда «смышленый» мальчик посадил медвежонка на горячую печь: пускай погреется, ему ведь на Севере холодно было. Медвежонок пострадал на печке, но не обиделся – по глазам понятно. И мальчик после этого полюбил его ещё сильней. Мальчик всегда засыпал с медвежонком под боком – привязался.
– Северок! Мы одни! Мамки с папкой нет. Что будем делать?
И медвежонок ответил (мальчик сам озвучивал):
– Пойдём, погуляем.
Одевшись, он увидел завтрак на столе. Есть не хотелось, а надо. Мальчик сел на табуретку. Покачаться попробовал. Табуретка – уже расшатанная – заскрипела, запиликала под ним. Улыбаясь, мальчик соскочил. Взял медвежонка и рядом с собой посадил – на другой табурет.
– Кашу надо лопать! – строго сказал, подражая отцу.
– Лопай сам. Я не хочу.
– Что это? Бунт на корабле? – возмутился мальчик, повторяя отцовские слова и даже интонацию.
– Медведи кашу не едят!
Мальчик задумался.
– А папка говорил мне, что медведи ходят по ночам, едят овёс на поле.
– Лошади пускай едят овёс, а я не буду!
– Ну, а что же тогда, Северок? А может, ягоды из подпола достать?
– Нет, не хочу.
– Вредина. Значит, пойдем натощак?
Медвежонок озорно посмотрел в окошко. Там блестело Колдовское озеро – первый, тоненький лёд.
– Натощак! – Медвежонок подмигнул чёрной ягодкой глаза. – Натощак мы будем легкие. Не провалимся…
– Куда не провалимся? Что ты опять задумал?
– Пошли, потом скажу…
– Северок! А звездочка нам пригодится?
– А как же!
И мальчик взял с собой любимую игрушку – «полярную звезду» с электрической лампочкой в сердцевине. Звезда была раскрашена цветами радуги и подсоединялась к проводу. Вечерами, засыпая, мальчик любовался «полярною звездой» – отец включал.
Колдовское озеро целиком остекленело за ночь. Сияло отраженным солнцем, напоминая огромный золотистый блин. (Такие блины, только маленькие, пекут на масленицу; мальчик помнил и любил яркую, веселую масленицу).
Разгоралось утро. Пташки беззаботно почиликивали. Дымились деревенские трубы на том берегу – домики смотрелись как детские игрушки. Мычала корова, собака взлаивала. На рассвете землю припудрил первый снежок. Белизну берегов украшала прощальная желто-красная опадь; тальники облетели, березы. Крепкий лист кое-где ещё держался на дубах, на ясенях. Зато кленовый лист – разлапистый, багровый – напоминал крупную лапу раненого зверя, прошедшего по первоснежью. Мальчик на минуту замер.
– Северок! Понюхай, кто здесь прошел? Кто?
– Дед Пихто.
– Разве у деда такие следы?
– А он босиком… после бани…
И мальчик с медвежонком засмеялись – кленовый лист казался уже не страшным. Мальчик спустился на берег. Забылся. Очарованный ослепительным миром, он заигрался и пошёл с улыбкой на устах по первому стеклу сияющего льда, по которому скакали солнечные зайцы, увлекая за собой.
6Три дня и три ночи потом на седых берегах трещали косматые костры, плавящие снег и превращающие мёрзлую землю в жирную кашу. Мать голосила, волосы на себе рвала. (У Храбореева виски в одночасье оштукатурила седина). Угрюмые люди сновали на лодках. Ломали и таранили жалобно звенящее ледовое стекло. Баграми кололи звезды, с холодного неба упавшие в темень воды. Сетями процеживали озеро, кровавое от всполохов. Сколько ни старались, но так и не смогли найти беднягу. Непонятно было, куда он запропал. Как будто он, безгрешный, не в полынью провалился – в небеса ушёл по перволёдку.
Храбореев закаменел. Несколько ночей не спал. Не пил, не ел. То сидел на крылечке, беспрестанно курил папиросы – одну от другой. То круги нарезал вокруг дома. Прислушивался к озеру. Осторожно спускался на лёд. Шею вытягивал от напряжения. Глаза хищновато зауживал. «Нет, – понуро думал, – показалось…» Возвращаясь на крыльцо, опять курил. И почему-то вспомнилось, как вот здесь, на крыльце, он дурак дураком веселился – из ружья салютовал по поводу рождения мальчишки. Горячие гильзы бренчали, раскатываясь по крыльцу.
И тогда пришла свинцовая мыслишка – насчёт ружья, а точнее, насчёт карабина, которым он теперь владел. Медленно придя туда, где хранилось оружие, он загремел какими-то банками, вёдрами. В тяжёлых сапогах он бестолково потоптался по красной глине, по чёрной чавкающей грязи – почти по щиколотку. При тусклом свете лампочки понуро посмотрел под ноги, и не сразу как-то до него дошло, что это – красная и чёрная икра, которую он рассыпал из вёдер, приготовленных на продажу.
Он уже взял карабин и хотел уходить, но тут же и остановился…
«А где патроны? Ладно! Нет! – решил, вздыхая. – Много будет шуму!»
Поставив карабин на место, Храбореев пришёл в сарай. Здесь было темно, только тонкою ниткой свет из поднебесья проникал – в игольное ушко невидимой какой-то прорехи в тесовой крыше. Пахло сеном, отрубями. Испуганный воробышек, панически пискнув, пулей выскочил из-под застрехи – крылья в тишине и в темноте затрепетали сухими листьями и словно бы осыпались где-то за дверью; затихли. Потирая небритое горло, затрещавшее грубой щетиной, он посмотрел на перекрытие – толстую балку. Если веревку закрепить – не оборвется. Антоха попытался верхней губой до носа дотянуться – детская привычка, говорящая о сильном волнении.
А в это время на озере что-то странное стало твориться.
Словно бы огонь заполыхал где-то в глубине. Тёмный лёд на середине сделался молочным и озарился радужными всполохами, похожими на колдовские цветы, вырастающие на середине озера. Беззвучно – как лезвие ножа сквозь масло – сгусток золотистого огня прошел сквозь лёд. Сделав круг по-над озером, чудная звезда влетела в дом Храбореевых – ничуть не опалив, не повредив бревенчатую стену. Покружившись по комнате, странный огонь остановился в изголовье женщины.
Вздрогнув, Марья проснулась. Похолодела. «Полярная звезда» – она узнала игрушку сына – ярко мигнула в темноте и улетучилась. Ушла обратно в стену – только золотистое пятно ещё светилось несколько секунд.
Марья подушку потянула, прикрывая больно забухавшее сердце. Отдышалась, ноги свесила на пол.
– Антоша! – позвала. – Ты где?
Часы в тишине равномерно постукивали. И вдруг часы остановились.
– Антон! – губы её затряслись.
И в это мгновенье двери в избу сами собою распахнулись, жалобно заскрежетав. Холодный воздух волнами повалил.
Марью зазнобило, но не от холода – от страха. От необъяснимого ужаса. Накинув телогрейку, она торопливо пошла за порог и заметила все тот же странный летающий огонь, мигнувший в потемках над крышей сарая. Марья пошла туда. Запнулась обо что-то. Загремело пустое ведро.
Храбореев замер.
– Ты чего здесь? – угрюмо спросил перехваченным горлом.
– А ты? – Глаза её расширились. – Ты что здесь?
– Так… по хозяйству… Решил управиться…
Марья обняла его. Затряслась в рыданиях.
– Управиться? А обо мне подумал?
Он заскрипел зубами.
– Ну, не надо. Что ты?
Окаянная веревка лежала под ногами – выпала. Обнимая Марью, он елозил сапогом по земляному полу – старался отодвинуть веревку за деревянный ларь с отрубями.
– Пошли! – Храбореев повёл жену под руку. – Что подхватилась-то?
Она молчала. И только после, когда лежали под одеялом, грелись тихим теплом друг от друга, Марья загадочно спросила:
– Помнишь Полярную звезду?
– Какую звезду?
– Игрушку.
– А-а! Ту, что дядька привёз из Мурманска?
– Ну, да. Там ещё лампочка была в серёдке.
– Была. Перегорела, – вспомнил муж. – Я новую туда поставил… Ну, и что?
Он спрашивал сонно, устало.
– Ладно! – Ей расхотелось рассказывать. – Спи. Потом поговорим…
Антоха поднялся. Покурил возле открытой форточки. За окном было звёздно, просторно – в холодных чёрно-синих небесах ни облачка. Вздыхая, он вспоминал своего «шибко умного» дядьку из Мурманска. Давненько уже занимаясь вопросами Русского Севера, дядя Никанор много любопытного рассказывал.
– Полярная звезда, – задумчиво сказал Антоха, – это небесный кол, вокруг которого вращается всё наше мирозданье.
Марья изумленно посмотрела на него. И что-то вспомнила.
– Часы… – показала рукой. – Заведи. А то остановились.
Для них начиналось какое-то новое время. Оба они ощущали это – с тревогой, с болью.
7Русская печь – весёлая горячая душа; и многое в жизни избы зависит от того, насколько хорошо «душа» горит и насколько хорошо умеет хранить в себе жаркое золото. Антоха долго мастера искал – когда строились. Издалека привёз печника – седобородого, несуетного умельца, который спервоначала закатил целую лекцию на тему русской печки и всяких обрядов, связанных с нею. Работая не только языком, но и руками – мастеровой старик проворно и ловко сделал то, что называется топливник и сводчатая камера или – горнило, которое можно раскочегаривать до полутысячи градусов; при эдакой температуре хозяйка может смело выпекать вкуснейший русский хлеб. Горнило, дошедшее до этой температуры, потом тепло часами сберегает; можно томить молоко, заниматься варкой всякой рассыпчатой каши.
Короче говоря, печка получилась – мировая. Храбореев даже удивлялся: два-три полешка бросишь – сутки в доме держится тепло. А уж если Марья затевала стряпню – надо было форточку держать открытой, чтоб не задохнуться.
И вот хваленая русская печь вдруг перестала тепло держать – как будто в ней потаённую какую-то дыру проделали. В доме было холодно, сколько ни топи. И даже не холодно, нет, было как-то знобко, промозгло и неуютно. Серебряно-белёный тёплый угол за печкой сначала стал тускнеть, потом темнеть, а потом покрылся какими-то чёрно-сизыми «трупными пятнами». (Так невольно думал Храбореев). Невмоготу ему стало томиться в этой просторной избе, окнами смотрящей «на могилу сына».
– Надо уезжать! – однажды сказал Антоха.
– Куда?
– На Север!
– Ты что? – удивилась Марья, взметнувши брови. – У меня пожилые родители. Как я брошу…
Он отмахнулся, раздраженно оборвал:
– Ну, ладно. Запела. У тебя – пожилые, а у меня – молодые? Я просто так заикнулся про Север… Не обязательно туда… Отсюда нужно дёргать – это точно. И чем скорей, тем лучше. Хоть в Тулу, хоть куда…
– А в Туле? Что? Какая радость? Снова на завод пойдешь?
– А что ещё? Буду блоху подковывать! – он говорил со злинкой, резко.
– Что ты сердишься? Я же не просто спрашиваю. Ты-то вольный казак, а у меня, сам знаешь, работа здесь… Мне нужно ребятишек доучить.
Марья была учительница начальных классов. Стройная, медлительная, большеглазая, с крупными и правильными чертами русской красавицы. Ещё совсем недавно Марья восхищала мужа своею царственной величавостью, гордым поворотом головы. А вот теперь это подспудно раздражало; с такой же величавой медлительностью ходит и поворачивается корова.
– Ребятишек тебе нужно выучить? – взъелся Храбореев. – Своего надо было учить! Я тебе как говорил? Бросай эту чёртову школу, дома сиди! Так ты… Если бы ты не побежала в школу в то утро…
Женщина опустила голову. Заплакала.
– Я теперь – крайняя… А ты? Куда ты хапаешь пудами, вёдрами? Все ночи напролёт…
– А для кого я хапаю? Для себя? Мне хватит водки самовар и огурец. Я же для вас старался… А ты? Куда ты нахватала этих уроков? За них копейки платят, а дома тебя нет.
– Да это я теперь взяла, чтоб дома не сидеть.
– И раньше было ничуть не меньше. – Он закурил, гоняя желваки по скулам. – Ну, хватит сырость разводить. Я не говорю, что надо прямо сейчас – шапку в охапку и бежать отсюда. Я вообще о том, что надо удочки сматывать.
– Надо, – согласилась Марья, вытирая слезы. – Мне тоже тяжело смотреть на это озеро.
Он пошёл к двери. Сурово оглянулся.
– В город съезжу. С мужиком одним договорился встретиться, потолковать насчет трудоустройства.
За рулём своей легковушки он успокаивался. Дорога отвлекала.
8Нравился ему этот тихий, скромный русский город, уютно обставленный клёнами, каштанами, дубами, липами и лиственницами. Душу радовали храмы – те немногие, которым безбожная власть не открутила почему-то золотые головы. И не могли не радовать озеро Бездонное и Нижний пруд – там всегда можно было рыбёшку подёргать. Правда, мелкая рыба; она там больше похожа была на крупную серебряную слезу – так думал Храбореев – не сравниться с тем, что можно поймать в окрестностях, но ничего, терпимо. «Главное – работу на крючок поймать, – думал Храбореев, – всё остальное как-нибудь приложится…»
Работа в городе была, да в области тоже. Можно было, например, пойти на Тульский оружейный завод. Можно было прописаться на Косой Горе – на Косогорском металлургическом специалисты нужны. Всё это так, но вот закавыка: Храбореев, хлебнувший воли и узнавший вкус хороших денег, не хотел батрачить на заводе, «блоху подковывать».
Как-то раз, понуро шагая по тульским улочкам, он оказался на автобусной остановке. Поднял глаза, увидел объявление – рабочих вербовали на Север, на буровую. «Может, махнуть?» Храбореев хотел внимательно прочитать объявление, но – не успел. У доски закопошился рыжий паренёк: кисточку достал, клеем замазал вербовку на Север и ловко пришпандорил цветной плакат – цирковые белые медведи не сегодня-завтра приезжали в Тулу на гастроли.
Несколько минут Антоха понуро пялился на белых цирковых зверей, за которыми затаилось приглашение на Север. И удивительно ярко представлял себе горы снега, лёд, морозы. Именно Север сейчас до зарезу был необходим ему, раскаленному горем. Что-то в груди нестерпимо горело, дымом табачным развеивалось. Чёрная та, кошмарная ночь возле костров на озере жутко опалила Храбореева. Лицо почернело, сделалось похожим на печёную картошину. Глаза его – до трагедии – цвели васильками. Теперь – потемнели. Причем потемнела, перегорела не только радужка – сами белки, опутанные красными прожилками лопнувших сосудов. Даже ногти на руках пожелтели, поблескивая ореховой копченой скорлупой. И зубы точно обгорели, желтовато-чёрными сделались – курил ужасно много. Курил и всё ходил, ходил кругами, искал вчерашний день на озере. Присматривался к дальнему берегу. Прислушивался к мышиному писку проклятого льда.
Иногда он видел неестественный свет в тёмной озёрной глубине, словно кто-то лампочку включал в глубокой ледяной избе. А потом вообще такое началось – с ума сойти.
Однажды Антоха вдруг увидел медвежонка. Явственно увидел и не на шутку перепугался. Нет, не медвежонка, а того, что происходит с головой. Он зажмурился, глаза протёр. Думал, исчезнет бесовский медвежонок. Нет, не исчез. Белый, косолапый – знакомый Северок – с левым надорванным ухом, с коричневой подпалиной сзади.
Северок, постукивая длинными кривыми когтями, походил по вечернему льду. (Дело было вечером.) Сунул мордочку в прорубь и, едва не провалившись, неуклюже отпрянул, скользя на раскоряченных лапах. В проруби – на дальнем краю плавала какая-то зимующая утка. Переполошившись, она крыльями взметнула брызги, заорала как недорезанная – и взлетела, роняя пух над озером.
Покосившись на утку, Северок отвернулся, фыркнул и пошёл куда-то по серебристому половику, постеленному через Колдовское озеро – луна вставала, округляясь над береговыми деревьями.
Храбореев опять зажмурился. Шапкой треснул оземь.
«Северок? Ну, всё! Я, кажется, готов! – Он посмотрел в сторону дома. – А может, за ружьем сгонять? Засадить жакан!.. В медведя… Или в душу мать свою…»
Он заставил себя успокоиться. Шапку поднял. Постоял, глядя в небо. (Полярную звезду искал зачем-то).
Немного пройдя по лунному половику, медвежонок опустился на четвереньки и побрёл в сторону берега – под снегом затрещали кусты.
«Да это что ж такое? – ошалело думал Храбореев, увязавшись следом. – Северок? Откуда ты взялся?» И в то же время здравый рассудок говорил, что медвежонок грезится; не надо идти за привидением – ни к чему хорошему это не приведет. Но очень уж велик был болезненный соблазн. И Храбореев начал «гоняться за призраком».
Старые заброшенные амбары кособоко стояли на берегу. Пахло гниловатым мёрзлым деревом. Луна, всё выше восходившая над озером, отбросила голубоватые чёткие тени строений – они искривлено лежали на искристых сугробах. Сбоку, за амбарами, торчали крупные заснеженные стебли, похожие на борщевики – лакомство медведей. Сухие стебли – только что сломлены. Свежий след протоптан по снежной целине – глубокие чашки следов сахарно блестели в лунных лучах.
Антоха насторожился, чутьем охотника осознавая, что это – никакое не наваждение. Зверь – настоящий. «Но откуда?! – зазвенело в голове». Он прижался к холодной, бревенчатой стене. Снег за амбаром захрустел, и Храбореев невольно попятился. Замер. Осторожно заглянул за угол, и сердце дрогнуло. «Что за черт?!»
За амбаром притаился человек. Дышал хрипловато – запыхался. Видно, бежал. «Да это что ж такое? Оборотень, что ли?» – в голову полезла ерунда.
Незнакомец тоже заметил его. Настороженно посмотрев друг на друга – шарахнулись в разные стороны. И опять затаились. Скрываясь за амбаром, воровато поскрипывая снегом – опять сошлись у тёмного угла.
– Тебе чего здесь? – угрюмо спросил Храбореев.
– А тебе?
– Я здесь живу. А ты чего шарашишься?
– Значит, местный? Это хорошо, – обрадовался незнакомец. – Я ищу медвежонка. Не видел?
Глаза у Храбореева распухли от изумления. Язык присох к зубам. Он наклонился, снегу зачерпнул. Пожевал, не ощущая вкуса.
– Медвежонка? – переспросил, глотая снег. – Какого медвежонка?
– Белого.
– Ты что буровишь, дядя? Ты в своем уме?
– Пока ещё в своем, – вздохнул мужчина. – Но запросто можно рехнуться с медведями этими.
Храбореев снова снегу зачерпнул, лицо растёр. Взбодрился. Ему вдруг стало весело.
– Белая горячка довела до белого медведя? – улыбаясь, Антоха швырнул под ноги остатки не съеденного снега.
Незнакомец вышел на свет. Луна озарила добротную обувь, демисезонное расстегнутое пальто, длинный шарфик в полоску.
– Ну, причем здесь белая горячка? Я серьёзно говорю.
Голос у мужчины тверёзый, густой.
Храбореев стёр улыбку рукавом – шаркнул по лицу, вытирая крошки снега с подбородка. Растерянно хмыкнул.
– А с каких это пор белые медведи водятся в наших местах?
– Со вчерашнего дня. Цирковые медведи приехали. Я работаю в цирке.
Храбореев чуть слышно выругался.
– А я-то уж подумал, господи, прости… – Он обескуражено покачал головой и неожиданно спросил: – А как насчет билетика? Поможете?
– Приходите. – Незнакомец назвал свою фамилию. – Спросите меня. Бесплатно проведу.
9Пока он даже сам ещё не знал, зачем бы ему сдался этот приезжий цирк. И только позже, собираясь ехать на представление, он вспомнил: незадолго до того, как разыгралась трагедия с сыном, Храбореев обещал свозить его на выступление какого-то заезжего клоуна, от которого вся ребятня «кишки рвала» – такая хорошая была клоунада; про это даже в областной газетке написали. Пообещал он мальчишке тогда – и не свозил. У него, у отца, другой маршрут наметился в ту пору – нужно было срочно перемёты проверять, контрабанду в лесах перепрятывать. И вот это жгучее чувство – чувство невыполненного обещания – подспудно толкало теперь Храбореева съездить и посмотреть. И пока он ехал в Тулу – он как-то странно посматривал на переднее сидение машины. И при этом Антоха попытался верхней губой дотянуться до носа – привычка, говорящая о сильном беспокойстве.
– Сейчас, сынок, – шептал он, – похохочем!
Передвижное здание цирка-шапито представляло собой разноцветный шатёр, похожий на цыганский, только очень пёстрый и очень огромный. Шатёр был величаво круглый, с пузатым высоким куполом.
– Вот этот купол, – говорил Храбореев и присаживался на карточки. – Видишь, сынок? Вот этот купол и называется «шапито». И поэтому цирк-шапито получается. Ну, погоди, я найду медвежатника.
Он потолкался под куполом цирка, заваленном какими-то канатами, клетками, ящиками для фокусов и прочим фантастическим добром. Не без труда отыскал «медвежатника» – так он про себя назвал нового знакомца.
«Медвежатника» теперь было не узнать: важный, строгий, в чёрном костюме администратора или распорядителя. Собираясь выписывать контрамарку, «медвежатник» прищурился одним глазом от дыма – сигарета подрагивала во рту.
– Сколько вас? – привычно спросил он, прекрасно понимая, что один мужчина в цирк не попрётся – это ж не кабак.
Антоха поначалу растерялся, точно пойманный на чём-то запретном, никому не известном. А потом широко улыбнулся, удивляясь такой тонкой, дипломатичной постановке вопроса.
– Нас?.. Да мы двое… Мы с сынишкой, если можно.
– Можно, – несколько барственно сказал администратор. – Мы для кого работаем? Мы для народа. Прошу.
А народа, кстати сказать, собралось довольно много в амфитеатре, широким барьером отделённым от арены цирка. Ребятишек – и это не удивительно – ребятишек было больше, чем взрослых. Глухой, сумбурно клубящийся шум и гам стоял под куполом, где висели пустые серебристые трапеции. Сорочья трескотня нарядных девчонок, мальчишек трещала то там, то сям.
Храбореев сел на своё место, а рядом – пусто.