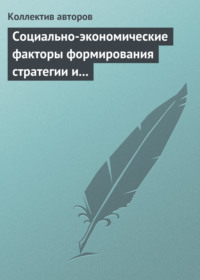Полная версия
Террор и культура
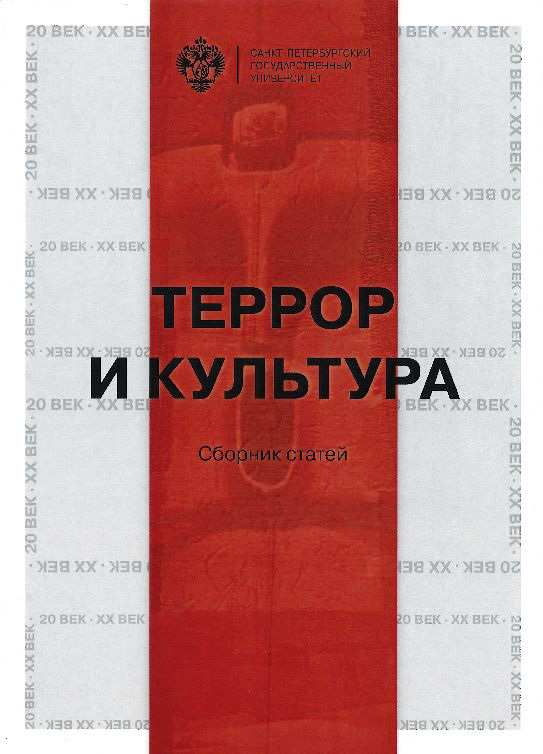
Террор и культура
(сост. Т. Юрьева)
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2016
* * *От составителя
Международная научная конференция «Террор и культура» (22–24 октября 2014 г. СПбГУ, Факультет свободных искусств и наук) продолжила цикл конференций Санкт-Петербургского государственного университета, посвященных осмыслению событий XX в. Актуальность проекта очевидна в той же степени, как и его значимость, он характеризуется междисциплинарностью, свойственной либеральному образованию. В подготовке конференций принимают участие Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, Музей современных искусств им. С. П. Дягилева СПбГУ, ведущие российские и западные ученые.
Первая конференция из цикла – «Известные и неизвестные открытия XX века» – выявила феномен XX в. в науке, культуре и искусстве, ввела в научный оборот новые трактовки хорошо известных и скрытых от широкой публики явлений, личностей, событий.
Конференция «Террор и культура» также призвана переосмыслить целые пласты мировой культуры. Она была задумана как междисциплинарный разговор специалистов различных отраслей гуманитарного знания. В XXI в. были проведены важные научные исследования, опубликованы новые архивные материалы, подняты значимые общественные вопросы в интересующих нас областях человеческого знания.
Изучение феномена террора, философская российская мысль об истоках и будущем террора, различные формы и способы его проявления в мировой культуре, его исторические уроки (от якобинцев до большевиков и «культурной революции» в Китае) – эти и другие вопросы важны для современного этапа развития общества.
В переводе с латинского слово terror означает «страх, ужас». Террористы стремятся вызвать хаос в обществе, спровоцировать состояние страха в массовом сознании.
В «пост-постмодернистской» среде террор трансформировался в акционизм – страшный, кровавый, бесчеловечный в своих действиях – при полном отсутствии идеологии и больших целей, в отличие от «классического» террора XIX–XX вв.
Современный акционизм, занявший большое место в искусстве, перенимает формы, атрибутику и тактику террора, оголяя бессмысленность его оправдания укладом традиционных национально-религиозных обществ.
Программа конференции получилась чрезвычайно насыщенной благодаря ученым, деятелям культуры, принявшим участие в ее работе. Высокий уровень докладов подчеркивает значимость и актуальность поднятых тем для осмысления ситуации в мире.
Мы благодарны всем участникам, откликнувшимся на наше приглашение!
Т. С. Юрьева
Жертва террора и сакрализация власти
[1]
Вмененный характер мощного социального аффекта, возникающего вокруг фигуры жертвы[2], очевидным образом указывает на связь дискурса о жертвах и власти. Власть в данном случае будет понята во многом вслед за М. Фуко в широком смысле слова – как то, что не сводимо к государству или политическому господству, хотя и проявляется через них. Власть существует везде, где есть социальные отношения, везде, где имеют место дисциплинарные практики, везде, где присутствует некая принудительность со стороны дискурса. Более того, придерживаясь русла так называемого перформативного поворота в гуманитарном знании (о ключевой роли перформативных действий в генезисе социальной реальности пишет К. Вульф[3]), можно говорить о перформативном характере власти: власть есть, поскольку она исполняется участниками социального ритуала, с тем уточнением, что власть не принадлежит субъектам, а скорее производит их. И теоретическая задача в данном случае состоит в проблематизации того, какого рода практики, существующие вокруг фигуры жертвы (в том числе жертвы террора), создают эффект присутствия власти и позволяют ей себя репрезентировать и истолковывать.
Тематическая связь дискурса о жертвах и власти понятна, учитывая, что практика жертвоприношения располагается в самой сердцевине опыта сакрального, а сакрализация оказывается первым и, пожалуй, самым действенным способом легитимации власти[4]. Как утверждают М. Мосс и А. Юбер, признанные классики, заложившие основы современного подхода к анализу практики жертвоприношения в социологии религии и культурной антропологии, «жертвоприношение есть религиозный акт, который посредством освящения жертвы изменяет статус лица, совершающего этот акт»[5][6]. С учетом фактического тождества сакрального могущества и власти, характерного для архаических обществ, «религиозное преображение» (изменение сакрального статуса), о котором пишут М. Мосс и А. Юбер, никогда не остается только религиозным, оно всегда конвертируется во властный авторитет. Поэтому не удивительна типичная для архаики прямая позитивная связь между потлачем и престижем, масштабами и щедростью жертвоприношений и устойчивостью власти. Симптоматично другое: само сохранение дискурса о жертвах в сколь угодно светском политическом, публичном контексте может свидетельствовать о том, что, несмотря на всю просвещенческую критику и декларируемые рациональные установки, десакрализованная власть по-прежнему испытывает кризис обоснования, а за различиями аффектов вокруг архаической жертвы (энтузиазм и восхищение) и жертвы современной (жалость и сострадание) стоит различие диспозитивов власти.
Архаика породила сакрализацию суверенности: сувереном становился тот, кто в ситуации соперничества был готов умереть сам, но также был готов и убивать. Как пишет Ж. Батай, «побуждения суверенного человека фундаментальным образом делают его убийцей»[7]. Анализ этого момента возможен в перспективе совмещения двух известных философских сюжетов. Первый – гегелевский сюжет о распределении властвующих и подвластных на основании отношения к смерти как критерия (пресловутая диалектика господина и раба)[8]. Второй сюжет – моссовский (имеется в виду его исследование дара[9]): эскалация щедрости обмена в потлаче и жертвоприношении, имеющая своей целью борьбу за престиж. Совмещая эти сюжеты, можно получить следующий тезис: носитель власти представляет собой отсроченную жертву. В архаических обществах зачастую почет, оказываемый священной персоне правителя, неотделим от обязанности царя быть ритуально убитым при первых признаках старения, болезни, а в некоторых культурах просто по истечении установленного не слишком долгого срока правления. В любом случае ритуальная смерть оказывалась прямой ценой властной харизмы (этот момент подробно рассматривается в статье[10]) и позволяла совмещать в одной фигуре функции царя, жреца и жертвы, обменивая тело правителя на благополучие общественного тела в реципрокальной циркуляции даров между племенем и предками-богами. Тот факт, что практики ритуального умерщвления царей известны в избытке, подтверждает этот тезис[11]. Жертва всегда священна, поэтому правящее лицо при инаугурации наделяется благодатью наперед. И в этом нет ничего особо странного, если время понимается циклически: правитель просто посвящен-обречен, и уже в этом смысле сакрален и отделен многочисленными табу от простых смертных. Однако сакральное амбивалентно (эта мысль принадлежит Р. Кайуа): отличаясь от профанного, оно само двойственно. Сакральное – «тот или то, до кого или чего нельзя дотронуться, не осквернившись или не осквернив»[12], это некий вариант подвижной, чрезвычайно действенной, но потому и опасной энергии, которая в зависимости от ситуации может обладать потенциалом то святости, то скверны. Вместе с инсигниями правитель получал право и даже обязанность на легитимное причинение смерти (этот момент оказался ключевым для определения того, что есть власть суверена), а кровь, проливаемая в ходе не только ритуалов (священная кровь), но также казней и войн (нечистая кровь как скверна), сакрализуя власть, наделяла ее чертами амбивалентности. Причем негативное, нечистое сакральное тоже представляло собой весьма действенную силу. Не будь это так, вряд ли можно было бы понять ту смесь энтузиазма и покорности, которую в своих подданных вызывали крупные исторические деятели (вроде Ивана Грозного), склонные к совершенно неумеренным кровавым эксцессам. Когда в архаических обществах осуществлялся ритуал жертвоприношения царя, с его помощью и возвращалась задолженность по благодати, и компенсировалось причинение смерти внутри племени. Даже полузабытые символические отголоски этого ритуала весьма неплохо обосновывали институт монархии, как пишет М. Ю. Парамонова[13] (см. также:[14]), развивая известную концепцию мистического тела короля, предложенную Э. Канторовичем[15]. Средневековые короли в случае насильственной смерти (часто вне зависимости от обстоятельств) имели вполне четкую тенденцию в глазах подданных обретать статус мучеников и чудотворцев, поскольку они претерпели смерть, будучи неприкосновенными в качестве «помазанников Божиих», что автоматически превращало их в некое подобие жертв искупления. В этом смысле тираноборчество совсем не всегда достигает заявленной цели, часто, напротив, в качестве незапланированного эффекта сакрализуя власть, вместо того чтобы ее деконструировать (например, удавшийся теракт 1881 г. против Александра II возымел совсем не то действие, на которое рассчитывали народовольцы).
Обоснование суверенности логикой жертвоприношения сохраняется и в обществах модерна, ничуть не утрачивая экстатического энтузиазма, с той только разницей, что сувереном теперь по преимуществу оказывалось государство. Гуманизм первой волны был откровенно кровавым мероприятием хотя бы в том смысле, что легитимирующий потенциал жертвы (в силу ее сакрального характера) использовался для поддержки Идеи: революция должна быть кровавой, за Родину следует умирать. Идея утверждалась пролитием крови двух типов (что закономерно в свете наследия сакрального с его амбивалентностью): кровью праведных борцов «за святое дело» и нечистой кровью, пролитой по праву возмездия или во имя этнической чистоты («классовые враги», «предатели», «этнический мусор»). Таким образом, некогда сакральный механизм эффективно использовался для реализации самых разных проектов по радикальному улучшению действительности в мировых масштабах. Здесь подключалась также и логика отчуждения, связанная с массовым характером всех социальных процессов и со специфическим безразличием к тому, кто попадет на конвейер. Массовые убийства в концлагерях оказались в принципе возможны, поскольку они встроились в уже привычный индустриальный механизм потоков – коллективное тело идет на завод, на фронт, в газовые камеры… Рабочие, солдаты, заключенные – в принципе, со всеми ними происходило одно и то же. Их индивидуальные тела встраивались в тело коллективное, с тем чтобы из них мог быть извлечен весь энергетический ресурс, а оставшееся отправлено на свалку прогресса в качестве отходов производства[16]. «Чего еще ждать от Молоха?» – говорит нам в своем пророческом «Метрополисе» Фриц Ланг, с ужасом показывающий, как демоническая машина «заглатывает» рабочих. Тем не менее Молох был оправдан конечной целью – строительством Вавилонской башни не то Разума, не то индустриального Прогресса.
В случае смены политического режима появлялась и смена акцента: враги режима (нации) могли быть переквалифицированы в жертв террора или репрессий; искупившие своей смертью вину – в убитых безвинно. Те, кто некогда был убит за то, что мешал воплотиться Идее, теперь дискредитируют ее своей смертью. После Второй мировой эта схема обнаружила свои границы, поскольку такая редакция гуманизма (вместе с просвещенческими амбициями по построению утопий) была уличена в тоталитарной подоплеке и, казалось бы, навсегда развенчана (в чем позволяют усомниться актуальные политические события). Поскольку «гуманистические» проекты, утверждающиеся за счет массовых смертей, на поверку оказались бесчеловечными, сама идея гуманизма обнаружила в себе внутренние противоречия. Как утверждает, в частности, Ж.-Л. Нанси в своей лекции «Сегодня»[17], гуманизм есть попытка ответа на вопрос о человеческой сущности, что, соответственно, может предполагать и программы по принудительной культивации последней (чем и занимался нацизм и прочие печально известные «измы»). В другой работе под названием «То, что невозможно принести в жертву» Нанси настаивает на том, что холокост[18] представляет собой вопиющее противоречие между возвышенной исходной идеей жертвоприношения и ее реализацией, «недостойной даже называться пародией» (цит. по:[19]). Гитлеровские идеологи противопоставили «отрицательному, корыстному еврею», действующему исключительно в интересах самосохранения, «истинного арийца», способного к бескорыстному самопожертвованию ради «Почвы и Крови». При этом «жертвенные» нацисты вместо самих себя убили тех, кто по их же собственной логике даже недостоин быть принесенным в жертву. И этот кошмарный казус делает невозможной апелляцию к жертвенности в старом смысле этого слова: место жреца навсегда занимает преступник-палач.
Гуманизм второй редакции (или постгуманизм) базируется на представлении о высшей ценности человеческой жизни – она не должна рассматриваться как средство ни при каких обстоятельствах, не должна быть сведена к статусу аргумента: нельзя легитимно жертвовать кем бы то ни было ради чего бы то ни было. В этом смысле культ героя с его самопожертвованием, не щадящим ни собственной, ни чужой жизни, столь органичный для советской, нацистской или любой другой тоталитарной и даже просто центрированной на государстве идеологии, в постгуманистической оптике мгновенно попадает под подозрение. Здесь может одобряться только самопожертвование ради спасения чужой жизни (но не ради идеи – иначе есть угроза оправдать террористов-смертников, разного рода фанатизм и экстремизм).
Гуманизм второй волны, исходящий из ценности человеческой жизни, продолжает апеллировать к дискурсу о жертвах, но именно здесь на уровне социальных аффектов табуируется энтузиазм и вменяются жалость и сострадание. «Неправильная», несвоевременная, бессмысленная, ненужная никому смерть – вот что отмечает невинные и вызывающие жалость жертвы в данном контексте. Когда речь идет об осмысленности жертвы, имеется в виду, что смысл – это то, что позволяет обществу примириться с фактом утраты (фактом причиненных смертей), воспринимать их как оправданные хотя бы в каком-то отношении. Классическая модернистская формулировка «их смерть не была напрасной» работала даже при довольно сомнительных обстоятельствах, пока речь шла, допустим, о жертвах войны. Ужасающие по масштабам потери под Сталинградом или во время блокады Ленинграда сами участники и свидетели событий, как правило, категорически не согласны считать напрасными. Даже если ошибки или цинизм руководства привели к тому, что цена победы оказалась непомерно высокой, погибшие пали за Родину, выполняя свой долг[20]. Но применить эту спасительную для социального порядка формулировку к жертвам немецких концлагерей или сталинских репрессий было весьма трудно, а к жертвам современного терроризма – практически невозможно.
Однако именно напрасность этих смертей, их вопиюще бессмысленный характер запускает процесс косвенной легитимации власти. Как говорилось выше, архаическая жертва обосновывала власть напрямую – чем больше правитель приносит жертв (в том числе себя самого в качестве жертвы), тем большим сакральным авторитетом обладает власть. Кроме того, традиционное жертвоприношение всегда было перформативным актом, роли в котором были заранее распределены и известны всем участникам ритуала, и уже поэтому происходящее не только имело очевидный для всех смысл, но и наделяло смыслом социальный порядок. В рамках же гуманистического и особенно постгуманистического дискурса квалификация смертей в качестве жертв осуществляется постфактум: террористы не называют заложников жертвами, равно как и охрана концлагерей не считала таковыми заключенных. Соответствующая фразеология появляется за рамками самой ситуации, она связана с внешними интерпретативными усилиями, и уже поэтому можно говорить о «конструировании жертвы», как это делает в своей статье Г. И. Козырев[21]. В ходе этого конструирования происходит «приватизация жертвы» – некая группа начинает отождествлять себя с ней и тем самым консолидироваться вокруг нее, вырабатывая модель идентичности. Кроме того, непременно конструируется образ врага, которому вменяется в вину страдание жертвы. При этом чрезвычайно важно, чтобы созданная конструкция была признана авторитетным другим, третьей стороной, «мировой общественностью». Иными словами, апроприация жертвы всегда происходит в контексте обвинения политических оппонентов, что позволяет обвиняющей стороне легитимировать собственные позиции, подкрепляя их риторикой справедливого возмездия. По этой схеме происходили обличение революционного террора во Франции, Нюрнбергский процесс, осуждение сталинских репрессий, да и сегодня точно так же выстраивается борьба с терроризмом. Мощный социальный аффект здесь действительно необходим, только в отличие от ужаса и восхищения, свойственных архаике, для означенной выше цели востребованы именно жалость и сострадание к невинным жертвам, равно как и страх оказаться на их месте. В. Савчук отмечает важный парадокс: притом что опыт современной жертвы катастрофичен, статус жертвы может быть чрезвычайно притягательным, поскольку снимает ответственность и дает определенные преференции. Соответственно, современные информационные войны ведутся за медиаприсвоение имени жертвы и права на компенсации и отмщение. «И Джордж Буш, говоривший от лица США, и исламские фундаменталисты, каждый со своей стороны считали, что жертвами являются именно они: первый – коварной террористической атаки 11 сентября 2001 г., вторые – насильственной американизации, большей частью осуществляющейся посредством оружия массового обольщения»[22]. В ходе этой борьбы вполне в соответствии с теорией Мосса конструируемая жертва одновременно и сакрализуется (избыточная символическая активность должна хоть как-то компенсировать катастрофу смысла), и профанируется (поскольку конструирование и присвоение предполагает не столько наивный пафос, сколько определенный цинизм). При этом не хуже чем в архаике, где жрец и жертва менялись местами и совмещались, различие жертвы и агрессора, которое казалось бы, должно быть бескомпромиссным и заявляется в качестве такового, часто только по видимости является бесспорным.
Кроме того, и это представляется не менее важным, случаи человеческих жертв должны быть преданы огласке, потому как они наглядно свидетельствуют о том, что у людей может быть необратимо похищен их статус субъекта, а стало быть, никто не в силах сохранить этот статус самостоятельно. Субъектность, вменяемость оказываются отчуждаемыми, как и все остальное. Но такая ситуация опять-таки выгодна для обоснования власти. В самом деле, подобные события как бы демонстрируют нам не только оскал лакановско-жижековского Реального, но и то, что нашу субъектность (в виде прав человека) дарует нам и гарантирует только власть в лице правового государства и только она сама по определению суверенна. Возникает странный парадокс: чтобы ужасы XX в. не повторились, всякий рождается с правами человека наготове, за всяким предполагается чувство собственного достоинства (а не только за некоторой элитой, как это было в обществе традиционном). Но то, что считается присущим нам априори, может быть с легкостью утрачено нами в чрезвычайной ситуации, когда мы оказываемся вытолкнуты из правового пространства во внезапно разверзшуюся «зону аномии». То, что мы не завоевывали, мы не можем сами удержать, и старый добрый классический идеал автаркии, столь дорогой сердцу интеллектуалов, в такой ситуации оказывается просто недостижимым. В этом отношении показательно, что во время антитеррористических операций полная пассивность заложников подспудно приветствуется. «Правильное» поведение в чрезвычайной ситуации предполагает, что следует дождаться, когда о тебе позаботятся профессионалы. Это у них есть право на геройское выполнение долга и самопожертвование (героизм по контракту куда более предсказуем, чем жертвенный энтузиазм, а потому предпочтителен с точки зрения современных машин власти). У мирных же граждан есть обязанность выживать и быть хорошими налогоплательщиками[23].
Есть, конечно, различия при распределении позиций силы и слабости, активности и пассивности в российском правовом и политическом пространстве, по которому до сих пор блуждают призраки тоталитарных идей, и на Западе с его развитым гражданским обществом, где индивидам вменяется именно активная гражданская позиция. Там пострадавшие объединяются в организации, учреждают общественные движения и столь громко заявляют о себе, что проигнорировать их требования не представляется возможным. Однако рискнем предположить, что в обоих случаях у жертвы есть перспектива лишь встроиться в русло ressentiment[24] (фр.)[25]. И пусть даже западная модель в отличие от российской предполагает публичную демонстрацию чуда вновь обретенной общими усилиями субъективности, мораль в пределе одна и та же: предоставь правовому государству и обществу заботиться о тебе или в случае чего выдать за тебя компенсацию.
Вообще денежные выплаты семьям жертв и пострадавших – отдельная скользкая тема, позволяющая затронуть вопрос о теневой стороне принципа ценности человеческой жизни. Ценность – коварное понятие, что хорошо понимал Ницше. В логике ценности, с одной стороны, мы утверждаем, что человеческая жизнь – цель, а не средство, с другой же стороны, ценность – это то, что может быть оценено, высчитано и пересчитано, то, что в этом смысле не абсолютно и вполне может подлежать девальвации. Если исходить из того, что каждая жизнь уникальна и потеря ее невосполнима, на чем и настаивает послевоенный гуманизм, практика денежных компенсаций может показаться неуместной – мы вступаем в сумеречную зону этически сомнительных калькуляций. Однако материальная компенсация, подобно архаической вире, не может не быть принята, как не может не быть выплачена. Правда, современная компенсация производится в логике простого эквивалентного обмена (в отличие от пресловутой ирландской «цены чести», символически зависевшей от статуса рода, к которому принадлежало лицо, понесшее ущерб), так что СМИ нас держат в курсе того, как именно нынче котируется жизнь. В древности выкуп платила виновная сторона, сейчас это делает государство, беря на себя ответственность за происходящее с гражданами и компенсируя свою вину за то, что была допущена чрезвычайная ситуация. Однако такая трогательная забота представляет собой специфические траты власти, подтверждающие ее и, по сути, увеличивающие ее «капиталы». Ведь сегодня жизнь расценивается как ключевой ресурс – в этом и заключается смысл биополитической парадигмы власти (биополитику как тотальное властное инвестирование всех жизненных процессов, как известно, рассматривал М. Фуко[26]). Тотальный контроль за жизнью предполагает, в конечном счете, что без ведома и дозволения власти никто не может безнаказанно ускользнуть в смерть сам или отправить на тот свет другого.
В итоге, отталкиваясь от современного публичного дискурса о жертвах, мы, возможно, сталкиваемся с провокативными и внушающими беспокойство подозрениями.
Одно из них заключается в том, что терроризм вписан в современный социальный порядок, а вовсе не нарушает его. Речь не идет, конечно же, о чем-то вроде «теории заговора» на высшем уровне, просто современный диспозитив власти закономерно воспроизводит ситуацию террора как своего рода системную ошибку. Казалось бы, террористы действуют в рамках логики архаического жертвоприношения, вроде как именно это делает их фанатиками и экстремистами, с которыми в силу их архаического мышления так трудно цивилизованно договориться. Однако на деле террористы удерживают множественность логик, опираясь в том числе на ценности гуманизма и либерализма, с которыми они ведут своеобразную торговлю. Требования террористов обычно не бывают выполнены, но значит, они хотят не того, чего они требуют. Поскольку цель теракта в медиарезонансе, гипотетически лучший способ борьбы с терроризмом – лишить его возможности этот медиарезонанс получить. Разумеется, в информационную эпоху это неосуществимо и, добавим, совершенно неинтересно участвующим сторонам. Кроме того, не только сам терроризм, но и борьба с ним включает режим чрезвычайной ситуации, столь удобный для установления усиленного контроля всех и вся со стороны властных институтов. Опять же, вспомним, что, по Агамбену[27], суверенная власть учреждает себя, устанавливая ситуацию чрезвычайного положения (это формулировка, детально прописанная К. Шмиттом в «Политической теологии»[28]), во время которой любая жизнь может быть беспричинно отнята суверенным решением и при этом убийство не будет считаться преступлением. Голая жизнь, vita sacra – это то, к чему суверенная власть потенциально редуцирует всех тех, кто попадает в зону ее влияния, и это вовсе не «священная жизнь», а жизнь-ресурс, подлежащий учету, контролю, манипуляциям, изъятию[29]. Иными словами, лагерный режим при Третьем рейхе воспроизводил эту схему масштабно и напрямую. Но пока есть шанс возвращения к режиму чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, когда правило и норма нуждаются для своего подтверждения в эксцессах исключения (допустим, в контексте терроризма и борьбы с ним), всякий имеет шанс внезапно обнаружить себя в статусе той самой голой жизни, vita sacra, жертвы террора. Стало быть, вопреки тому, что писал Фуко, биополитическая парадигма власти, расценивающая жизнь как ключевой ресурс, не приходит на смену власти суверенной, а, скорее, возникает их странный гибрид. Более того, вполне в духе времени нынешняя ситуация террора (захват заложников) уже не особо нуждается в сложно организованных топосах вроде концлагерей. Чрезвычайная ситуация, где не действуют закон и право, может молниеносно возникнуть в любом «узле ризомы» и произвести эффект деструкции субъектности в любом попавшем в зону катастрофы индивиде всего за несколько часов или дней.