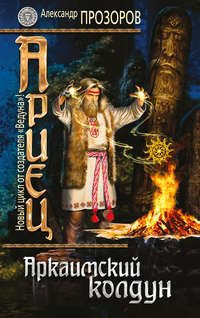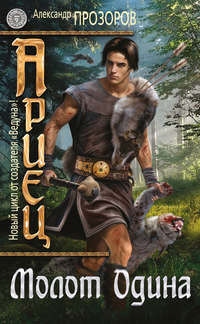Полная версия
Дорога цариц

Александр Прозоров
Дорога цариц
© Прозоров А., 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
* * *Часть первая. Сироты
11 мая 1564 года
Дорогобужский уезд близ Вязьмы
В темной и тесной церкви густо пахло гнилью и прогорклым жиром от множества чадящих перед иконами хвощовых свечей и медных лампад. Этот застарелый дух не могли разогнать ни ароматы благовоний в ладанке старого попика, ни сквозняк, веющий от покосившейся двери к открытым окнам, ни влажная затхлость, что сочилась через трещины черного от времени тесового пола. Сурово смотрели святые с образов на стенах и скромного резного иконостаса, потрескивали фитили и стебли, заунывно бормотал отпевающий покойника худенький седобородый священник.
В белом сосновом гробу лежал не старый еще боярин с длинным глубоким шрамом через лицо, проходящим через левую глазницу, и окладистой русой бородкой с двумя тонкими косичками, заплетенными по правой стороне. Почти до самого подбородка покойника укрывало белое домотканое полотно, поверх которого лежали только руки, а на голове глубоко сидела шапка из темного горностая. В сложенных на груди ладонях горела тонкая восковая свеча. И это была единственная роскошь, каковую могли позволить себе родственники, провожающие мужчину в последний путь.
Возле катафалка стояло всего несколько человек. Крупнотелый русобородый прихожанин в рысьей шубе, в темных суконных шароварах и бурых яловых сапогах. Добротный широкий ремень – тисненый, с медной пряжкой, замшевой поясной сумкой и тремя ножнами, украшенными костяными накладками, и вытертым пятном от надеваемой в походы сабли – выдавал в нем служивого человека, «боярского сына». К боярину приткнулась женщина лет тридцати в высоком кокошнике, поверх которого лежал большой черный платок, краями ниспадающий на крытую тонким синим сукном лисью шубу, – вестимо, жена. Чуть дальше стояла утонувшая в больших, явно не по росту, одеждах старушка, которая постоянно плакала, время от времени прикрывая лицо вышитым платком. По возрасту – явно матушка.
По другую сторону от гроба замерли с сухими глазами двое детей: к мальчишке лет десяти на вид испуганно жалась шестилетняя малышка. Оба сероглазые, с тонкими чертами лица, кудрявые и светло-русые. Сразу видно – брат с сестрой. Их можно было бы принять за крестьян: одежда из серого домотканого полотна, даже без вышивки, простенькие поршни на ногах; мальчик опоясан сыромятным ремнем с двумя ножами и замшевой сумкой, девочка – и вовсе сплетенным из матерчатых лент кушаком.
Дети вели себя тихо и во время отпевания, и по пути на кладбище, и возле могилы – до тех пор, пока земля не ударилась о крышку опущенного в могилу гроба. И лишь тогда девочка вдруг расплакалась, крепко вцепившись в кафтан мальчика, и тихонько спросила:
– Папа умер, да? Боря, папы больше нет? Боря, он больше не вернется?
– Ему сейчас хорошо, Иришка, – обнял ее мальчик и прижал к себе. – Он сейчас в раю, он в Золотом мире на дружеском пиру с нашими предками.
– А нам? А как же мы? Боря, куда мы теперь?
– Знамо, у меня теперича жить станете, – расслышал ее слова боярин. – Вы же мои племянники!
Однако эти слова девочку ничуть не утешили. Наоборот, она разревелась только сильнее, в голос, уткнувшись лицом в полу кафтана и высоко вскидывая плечи.
Ирина успокоилась только поздней ночью, на полатях отцовской избы, когда заснула в объятиях своего брата. Поэтому утром малышку не будили почти до полудня, и, когда девочка спустилась вниз, дом уже опустел. Все сундуки, корзины, припасы, лавки и прочие вещи холопы к сему времени успели загрузить на телеги и накрепко увязать. Хотя о девочке, понятно, родичи не забыли и оставили для нее крынку киселя и расстегай с рыбой.
Когда ласковое весеннее солнце перевалило зенит, обоз из четырех возков тронулся в путь по влажной чавкающей дороге, петляющей между черными полями с редкими проплешинами серого крупенистого снега, все еще не сдавшегося побеждающему теплу. Всего несколько верст, три часа пути – и обоз въехал в Годуново, свернув к воротам старой боярской усадьбы, ныне по праву старшинства принадлежащей боярскому сыну Василию Ивановичу.
Несмотря на громкое название, усадьба мало отличалась от зажиточных крестьянских дворов, стоящих неподалеку. Такая же размерами изба, такой же бревенчатый тын, такой же овин и сметанный у забора стог сена. Разве только амбаров у хозяев поместья было два, а не один, да хлев и конюшня размерами зело поболее. Оно и понятно – боярину ведь надобно в поход ходить, причем каждому из воинов – одвуконь. Да еще возок с припасами с собою забирать. Притом еще и хозяйство без лошадей не оставишь. Так что лошадей государеву воину требовалось куда как более, нежели обычному землепашцу.
Разумеется, так было не всегда. Всего лишь век назад знаменитый боярин Иван Годун, получивший в свое владение два десятка деревень, жил богато и роскошно. Однако родилось у боярина Годуна три сына, и унаследовал каждый от батюшки всего лишь по шесть деревень. И у боярина Григория Ивановича тоже появилось трое сыновей. И унаследовал каждый уже по две деревни. И у боярина Ивана Григорьевича тоже случилось три сына… И тут уже по всем статьям стало получаться, что и делить-то нечего, ибо с двухсот десятин на государеву службу надобно выставлять четырех воинов. Коли боярского сына с холопом считать – то на троих помещиков надел уже не резался. И тут ужо – али в черный люд, в крестьяне уходи, али еще чего придумывай…
Братьям повезло – отцовское наследство получилось разделить пополам. Однако же доходов у каждого теперь выходило только-только концы с концами увязать, и жили они как бы ничуть не лучше своих крепостных крестьян. Разве только чести выходило больше: все же служилый люд! Но вот еда на столе, изба да одежка уже давным-давно от крестьянской не отличались.
Впрочем, теперь, после смерти Федора Ивановича у боярина Василия Ивановича появлялась отдушина. Вдвое больше земли, вдвое больше дохода. Во всяком случае – пока племянник не подрастет и в Разрядном приказе в новики от отцовской земли сам не запишется.
– Эй, Борька! – поманил спрыгнувшего с телеги мальчишку боярский сын Василий Иванович. – Ты покамест лошадей выпряги да напои. Опосля Хмыряга их в конюшню отведет. Там, глядишь, и ужинать пора придет.
– Да, дядюшка… – кивнул сирота и направился к первому возку.
В самом поручении младшему потомку из рода Годуновых не было ничего обидного. Ведь вся дворня боярского сына Василия Годунова состояла из двух холопов да трех девок. И коли самим не работать – ничего в делах хозяйских не сдвинется. Посему и сам Василий Иванович тоже принялся таскать вместе со слугами вещи в дом али в амбары, и его супруга за узлы взялась, и даже престарелая матушка чем могла подсобить старалась.
Однако само осознание того, что отныне Борис не у себя дома оказался, а при чужом дворе в приживалках, что не увидит больше батюшки, и мамина могила за много верст ныне осталась, что понукать теперь им совсем чужой человек станет, вытолкнула у мальчишки из глубины души тугой горький ком, застрявший в горле, мешающий говорить и даже мыслить. С этим комом поперек глотки мальчик выпряг по очереди всех лошадей, понуро вычистил соломой их шкуры, вытянул из колодца и налил в корыто воды. Затем помог холопам разобрать уже опустевшие телеги: колеса отдельно, сами короба отдельно – дабы места во дворе меньше занимали. Затем вместе со слугами помыл руки у подвешенного ведра и вошел в избу, где девки уже выставляли на стол нарезанный крупными ломтями хлеб, горшки с горячей кашей из сечки с салом, миски с квашеной капустой и солеными огурцами.
Горшков оказалось два – один во главе стола для боярина и холопов, его верных слуг и воинов, а второй – внизу, на ближнем к дверям краю, для женщин и детей. И хотя Борис при своих одиннадцати годах даже в отцовском доме считался за ребенка, однако оказаться среди баб ему все равно стало невероятно обидно.
После ужина, никого не спросясь, мальчишка забрался на полати, уполз к дальней стене, прижался к бревнам, лег на живот, подсунул под голову шапку и затих, больно прикусив губу.
Сказать, что на душе у него было тоскливо – значило ничего не сказать. Всего через три года после матери потерять отца, а вместе с тем – родной дом, привычную жизнь, мечты и надежды… Почитай – ничего не осталось. Вообще ничего, окромя рук, да ног, да головы! Боря стал никому не нужен. Никто его больше не любил, не желал ему счастья. Никто теперь не пожалеет, не поможет, угощением вкусным не поделится, никто ничего просто так никогда не подарит. Пустота. Впереди осталась только черная бессмысленная пустота. Прямо хоть руки на себя накладывай!
Неожиданно рядом послышался шорох, мальчику в бок уткнулась голова в платке.
– Ты чего тут прячешься, Борь? – прошептала девочка.
– Он меня изведет, Иришка, – неожиданно даже для самого себя ответил паренек. Разумеется, так же тихо. – Как есть изведет! Не надобен я ему, мешаю.
– Ты про дядюшку? – неуверенно переспросила сестра.
– А про кого еще? – скрипнул зубами мальчик. – Броню отцовскую и саблю, вона, сразу прибрал! Сказывает, пусть служивый пока носит, дабы зря не лежала. И дом наш сразу вычистил, посадить кого-то желает, и со старостой за барщину сговорился. Нешто дядя Василий так просто обратно все и отдаст, как подрасту? Да и будет ли чего отдавать? Дом обживут, броня посечется.
– Не может такого статься, – мотнула головой Ирина. – Он же дядя наш! Отцу нашему брат!
– Может, и брат. Ан землица отцовская ему страсть как нужна! Своей-то, знамо, еле хватает, с каши на воду перебивается. Детям оставить и вовсе нечего.
– У дяди Васи нет детей.
– Он здоровый, еще родит!
– Наговариваешь ты, Боря… – после долгой заминки все же возразила девочка. – Он нас любит. Он отцу нашему беречь нас обещался. Они же братья!
– Ага! – буркнул Борис. – Такие братья, что младшего-то, Дмитрия, выжили!
– Он сам сбежал! Без спросу! – торопливо ответила Ирина. – Предал всех! Вона, бабушка сколько раз ругалась!
– Это они нам нынеча так говорят! – упрямо буркнул мальчишка. – Вот токмо земли-то на него у деда не имелось. Токмо батюшке и дяде Василию, и то еле хватило! Оттого и выжили! И меня дядька за землю мою тоже сживет!
Он вцепился зубами в шапку, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Девочка тоже замолчала, с трудом веря в услышанное.
Со стороны печи послышался шорох, на полати заглянула старая боярыня:
– Иришка, Боря, это вы здесь шушукаетесь?
– Мы, бабушка, – призналась девочка.
Пожилая женщина помолчала, тяжко вздохнула:
– Ох, сиротинушки вы мои бедные… Прогневался, вестимо, господь… Ну, горюйте, горюйте. Поплачьте – легче станет.
От такого пожелания паренек едва не прокусил шапку, из глаз сами собой выкатились две слезы. Он тряхнул головой и зло прошептал:
– Сбегу я, Иришка! Не хочу жизни такой! С дядькой не останусь!
– Куда, Боря? – испуганно прошептала девочка.
– А все равно куда! – решительно выдохнул младший Годунов. – Коли Дмитрий, дядька, сбежал, почему я не смогу? У него, сказывают, все хорошо! При дворе царском жирует! Чем я хуже?!
Что на такое возразить, шестилетняя малышка не нашлась.
Слухи про младшего брата из семьи Годуновых ходили разные. Чаще его ругали – как предавшего свой род, свою семью, бросившего братьев и родителей. Но иногда поминали и то, что при государе Иоанне Васильевиче он видным боярином стал, богатым, при высоком месте. Вот токмо не восхищало сие никого. «Иудиными сребрениками» возвышение Дмитрия старшие Годуновы называли и никому удачливого родича в пример не ставили.
За окном, затянутым промасленным полотном, вскорости стемнело, на полати полезли девки и холопы. Весенняя ночь коротка, уставшим людям хотелось выспаться. При чужих ушах сироты своего разговора продолжить, понятно, не смогли. Однако маленькая Иришка, прильнув к брату, все же спросила в самое ухо:
– Ты ведь меня не бросишь, да?
На рассвете обитатели усадьбы снова собрались за общим столом. Быстро подкрепились, поделив меж собой печенную накануне репу и мелкую копченую рыбешку: плотву, окуней, подлещиков.
– Я с Косачем ныне на Бежерин луг поеду, – поднялся из-за стола боярский сын Василий Иванович, одетый ради буднего дня в простую холщовую рубаху и такие же бесцветные порты. – Там ныне все ужо оттаяло, пахать впору. А ты, Хмыряга, с Борисом к Рыжему россоху отправляйся, там еще два стога нетронутых стоят. Оба сегодня на двор перевезите, ибо сена над хлевом совсем не осталось.
Дворовым девкам хозяин никаких приказов не давал – ими супруга распоряжалась. Да хлопоты хозяйственные и без того все известны: коров доить, свиньям очистки да буряки запаривать, прочей скотине свежий корм задавать, из-под скотины солому загаженную выгребать.
Хмурый паренек выслушал указания дядюшки, ничего не спрашивая и не переча. Помог одетому в истрепанный кафтан плечистому рыжебородому холопу собрать один из возков, насадив колеса на оси и закрепив их вбитыми в отверстия деревянными штырями, завел в оглобли лошадь, помог надеть на нее и затянуть хомут, сам открыл ворота и махнул выезжающему холопу:
– Ты поезжай, Хмыряга, я опосля нагоню. До ветру отлучиться надобно. Не дотерплю.
– А куда идти, знаешь?
– К россоху, – пожал плечами Борис. – Что я, дедовского поместья не помню?
– Тогда поспешай. – Холоп тряхнул вожжами, и телега бодро выкатилась на утоптанную дорогу.
Паренек медленно закрыл створку, оглянулся через плечо. Двор был пуст.
Борис сорвался с места – схватил с поленницы одну из стоящих там корзинок, метнулся к погребу, нырнул в дверь. Быстро выгреб какие-то клубни с правого ящика, сдернул висящие слева темные палки, тут же выскочил обратно на свет, забежал за амбар и оставил корзину там. Потом поднялся на крыльцо и приоткрыл дверь:
– Иришка, ты здесь?! Мы с Хмарой поехали!
– Я слышу, Боря! – выглянула в сени девочка.
– До вечера! – громко повторил паренек, вошел в дом.
Малышка тоже перешагнула порог, сделала шаг навстречу. Брат протянул руку, тихонько провел пальцами ей по щеке – и Ира сразу все поняла, почувствовала. Схватила его за руку.
– Не оставляй меня, Боренька! – торопливо зашептала она. – Не оставляй меня с ними! Миленький, братик мой… Не бросай!
Мальчик колебался лишь пару мгновений. Одними глазами указал на крыльцо за распахнутой дверью, сгреб с бочек старый тулуп, выскочил наружу, шмыгнул за амбар. Осторожно выглянул из-за угла – и его едва не сбила с ног подбежавшая сестренка:
– Ты решился, да?! Куда мы идем?
Борис обнял ее, прижал, посмотрел через голову. Сиротам повезло – во двор все еще никто не вышел.
– За мной! – выдохнул мальчишка, схватил сестру за руку и прямо через грядки кинулся вниз к реке, нырнул в прибрежный ивняк и повернул вниз по течению вдоль русла Сарогоща.
Паренек убегал – и ощущал себя оленем, по следу которого пустили гончих. А потому мчался, мчался, мчался, буквально волоча за собою сестренку. Уже к полудню они добрались до Вязьмы, повернули вдоль нее на восток…
– Боря, я больше не могу! – взмолилась девочка. – Давай хоть немножко передохнем!
– Нельзя, Иришка! Вдруг за нами гонятся?
– Да откель они догадаются, куда мы побегли?
– Ну-у… – Паренек замедлил шаг, оглянулся назад, прислушиваясь и приглядываясь. – Куда еще через огороды бежать?
Весна еще только вступала в свои права, и полоска прибрежного кустарника не успела покрыться листвой, хорошо просматриваясь насквозь. Однако позади, насколько хватало глаз, не различалось никакого движения, не слышно было ни топота, ни криков.
– Еще немного пройдем, сестренка, тогда и отдохнем, – все же не рискнул сразу останавливаться Боря, однако шаг замедлил.
Уже без большой спешки беглые сироты шли еще с час, пока не уткнулись в накатанную дорогу, полого уходящую прямо в реку.
– Кажется, брод… – Паренек поставил корзинку на землю.
– Боря, мы ведь в него не полезем? – зябко поежилась девочка. – Лед ведь токмо-токмо сошел!
– Литовский тракт на той стороне. – Борис начал расстегивать кафтан. – Иначе нам до Москвы не дойти.
Сбросив одежду, он присел, подсадил сестренку на плечо, выпрямился, быстро и решительно вошел в воду, торопливо пересек реку, ссадил девочку на берег, повернул назад, перешел, забрал корзину и одежду, снова перебрался через Вязьму.
– Вай-вай-вай. – Стуча зубами от холода, паренек завернулся в тулуп, подобрал корзинку и вещи, свернул с дороги в растущий слева осинник, углубился на два десятка шагов, присел на ствол упавшего зимой дерева, поставил лукошко между ног. – Давай посмотрим, чего я там впотьмах прихватил?
В ивовой емкости обнаружилось примерно с полпуда отборной репы, каждая с кулак размером, и пять упитанных, как поросята, копченых сазанов.
– Пообедаем?
Щедрой рукой паренек разломал надвое одну из рыбин, половину протянул девочке, спину взял себе. Ира отказываться не стала, быстро набив рот сочной белой мякотью, утробно прочавкала:
– А куда мы идем, Боря?
– В Москву, – пожал плечами паренек.
– А куда в Москве?
– Ну-у… Найдем куда. Москва большая, там для всех место найдется. Коли дядюшка Дмитрий устроиться сумел, нешто мы не сможем? Двор царский там, приказы все. Князья родовитые.
– И сколько нам добираться?
– Батюшка сказывал, двести верст по тракту. Десять дней пути… – Борис опустил глаза к корзинке. – Коли припасы беречь, дней на шесть хватит. Дня четыре, я так мыслю, вытерпим. А там уже и Москва!
Поев и обсохнув, паренек оделся. Брат с сестрой вернулись на дорогу, с полверсты прошли по ней на юг и оказались на чистеньком ухоженном тракте, ведущем из столицы великой православной Руси на запад, в земли немецких схизматиков. Дорога примерно трех саженей в ширину – четыре телеги бок о бок легко помещались – была усыпана желтым речным песком, и потому на ней не застаивалось ни луж, ни слякоти – в любую погоду спокойно ездить можно.
Однако в сии майские дни тракт все едино оказался совершенно пуст – в весеннюю распутицу путники не рисковали отправляться в дальнюю дорогу даже по такому сказочному и удобному тракту, как этот. И потому до самых сумерек сироты не встретили здесь ни единого попутчика, разминувшись всего с тремя встречными возками.
Вечером дети свернули в лес, выбрали вековую ель, высоченную и разлапистую, забрались под нижние ветки, завернулись в пахнущий солеными огурцами, старый и истрепанный до дыр овчинный тулуп, прижались друг к другу и крепко, спокойно заснули.
Новый день не принес никаких неожиданностей: чистое небо, теплое солнце, свободная дорога – и никаких признаков погони. К вечеру сироты добрались до могучей и богатой Вязьмы, но входить в город не рискнули – обогнули твердыню вдоль бревенчатых стен и двинулись дальше по тракту. Снова заночевали в лесу, завернувшись в тулуп и укрывшись еловыми лапами.
Так же благополучно протекли еще два дня – не считая того, что к вечеру второго закончилась рыба, а репы осталось только половина корзины. После этого Борис начал беречь припасы, доставая лишь по две репы на завтрак, обед и ужин, но к седьмому дню пути корзина все равно опустела, а юные путники не дошли еще даже до Можайска. И ночевать на восьмой день пришлось на голодный желудок.
Судороги в пустом животе разбудили сирот еще до рассвета. Борис поднялся первым и, чтобы хоть как-то заглушить голод, ощипал с еловых веточек молодые хвойные кисточки, сжевал их почти полную горсть, закусил растущей на прогалине кислицей. Еда не самая сытная и вкусная – но хотя бы не отравишься.
– Боренька, кушать очень хочется, – жалобно шмыгнула носом сидящая на тулупе девочка, зябко потирая плечи. – Неужели совсем ничего не осталось?
– Я сейчас чего-нибудь найду, – пообещал паренек. – Ты только не плачь, Иришка, хорошо? Здесь подожди. Капусты, вон, заячьей пощипать можешь.
Борис решительно положил ладонь на рукояти отцовских ножей, отошел от ели, под которой они ночевали, и в задумчивости замедлил шаг.
У него не имелось с собой ни лука, ни рогатины, ни даже простого кистеня. Ни лошади, ни веревки для силок. Посему рассчитывать на охоту младший потомок из рода Годуновых никак не мог. Не с чем охотиться! Да еще в чужом лесу, где ни тропы звериные неведомы, ни овраги и водопои, ни угодья помещиков местных. Про грибы в мае вспоминать еще рано, про птичьи гнезда тоже…
В животе от таких мыслей снова тревожно забурчало, остро кольнула судорога. Паренек двинулся вперед, глядя по сторонам в надежде высмотреть хоть что-нибудь. По левую руку блеснул просвет, паренек повернул туда. Сделав несколько шагов, он увидел впереди речную излучину. Не иначе петлистой Вязьмы.
– Есть! – обрадовался мальчишка, быстро пробился вперед, спустился к влажному, заболоченному берегу, заросшему рогозом, забрался в самую гущу растений, выхватил косарь[1], рванул под основание самую крупную камышину, резанул переплетение дерна над лентой корневища, потянул дальше, еще и еще. Добыв хвост пяти шагов в длину, обрубил его, быстрыми ударами срезал зеленые стебли, отбросил в сторону и взялся за растущие чуть в стороне растения. Когда в мутной жиже перерытой болотины набралось с десяток корневищ, собрал их все в пучок, прошел по реке чуть выше, к сухому берегу, тщательно выполоскал, забросил на плечо и отправился в обратный путь: – Эй, Иришка, ты где?! Отзовись!
– Ау! – прозвучал из лесной гущи девичий голосок. – Я здесь!
– Иду-у!!! – Двигаясь на голос, паренек вскоре выбрался к ели, сбросил добычу на землю. Одно из влажных рыжих корневищ тут же порубил на куски в локоть длиной, пару штук очистил от тонкой шкурки и протянул белое рыхлое нутро сестре: – Вот, пожуй пока. Манку с корешков глотать можно, а мочалку выплевывай.
Малышка тут же жадно вцепилась в угощение, а Боря снова отправился в лес, собирая хворост и валежник. Притащив несколько охапок, расчистил место на прогалине между деревьями, сложил шалашик из самых тонких веточек, подсунув в середину горсть прошлогодней сухой травы, добавил тертого сухого мха, достал из поясной сумки кресало. Привычно высек искру, раздул огонь, немного выждал, давая заняться веткам, бросил сверху хворост.
– Как хорошо, костер! – обрадовалась девочка. – Боря, а мы что, сегодня никуда не пойдем?
– Я так мыслю, сегодня не получится, – покачал головой паренек. – Пока угли нагорят, пока корни запекутся… Полдня пройдет.
– Ой как славно! – Ира села рядом с братом, зацепилась за руку и крепко-крепко прижалась к его боку. – У меня от этой ходьбы ужо все ноги болят!
Поверх тонкого хвороста легли толстые ветки соснового валежника. Когда он прогорел, паренек покидал в угли порубленные куски рогоза, набросал сверху веток. Костер полыхнул снова, а когда прогорел, Борис выгреб из углей запекшиеся корни. Выждав, пока они немного остынут, сироты стали чистить получившееся угощение и жадно есть. На вкус оно оказалось совершенно никаким – просто вязкая, слегка пахнущая дымом масса. Однако в животе очень быстро возникло подзабытое ощущение сытости.
Паренек бросил на угли оставшийся хворост, принес и расстелил тулуп. В тепле сироты быстро сомлели и задремали.
– Как славно, что мы вместе, Боренька, – неожиданно пробормотала девочка. – Мы ведь с тобой никогда не расстанемся, правда? Никогда и ни за что!
– Никогда, Иришка. – Младший Годунов нащупал ладонь сестры и крепко ее сжал. – Одни мы с тобой теперь на всем белом свете. Нам друг друга терять нельзя.
Ближе к вечеру паренек сходил к реке еще раз, добыв несколько плетей рогоза, каковые сироты тоже запекли на углях. И потому утром они не только хорошенько наелись, но и почти наполовину загрузили корзинку едой.
Этого запаса юным путникам хватило на два дня. Но зато вторым вечером детям повезло остановиться на краю небольшого клюквенного болота – и они вдосталь наелись оставшейся после зимы ягоды.
На пятнадцатый день пути брат с сестрой наконец-то добрались до Можайска – огромного белокаменного города, почти на полверсты во все стороны окруженного ремесленными посадами.
Полпути до Москвы! Вслух Борис ничего не сказал, однако понял, что очень сильно ошибся в замысленных на дорогу планах.
Можайск ребята тоже обогнули, свернув в лес в двух верстах за ним. Их корзинка опять была пуста, но теперь паренек знал, где можно добыть еды, и сразу отправился к реке, благо текла она всегда в одном и том же месте – немного к северу от Литовского тракта.
Однако здесь путника ждала неприятная неожиданность – вместо широкой извилистой Вязьмы со множеством заводей и тоней мальчик увидел широкий канал с ровными гладкими берегами.
– Вот проклятие! – только и выдохнул Борис. – Кажется, нам опять придется кушать веточки…