
Полная версия
Ахульго
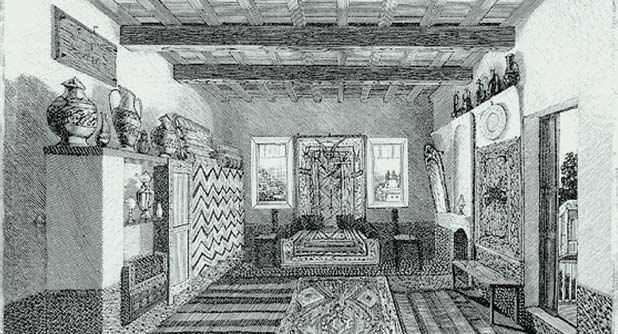
В душе Джавгарат чувствовала, что Шамиль к ней не просто добр, но любит ее, хотя и старался сдерживать свои чувства. Джавгарат тоже молчала о своей тайной радости. Не рассказывать же об этом Патимат? У них и без того было о чем поговорить. И выходило, что две жены – лучше, чем одна, когда глава семьи так редко бывает дома. Не так сушило душу одиночество, а скучать и вовсе было некогда. В доме имама всегда было полно хлопот.

Джавгарат помогала Патимат с детьми, уследить за которыми становилось все трудней. Вот и теперь Патимат варила хинкал на вделанном в стену очаге, а попутно умывала и наряжала детей, которые успели изодрать свою одежду в бесконечных странствиях по аулу. Как тут не помочь? Эти мальчишки давно стали ей как родные. Они были в своего отца. Вот и Шамиль, хоть и имам, а воюет порой, как обычный мюрид. И бешмет, и черкеска его после походов приходят в такой вид, что починить их нет никакой возможности. Приходится доставать новые. На этот раз Джавгарат сшила ему белую черкеску, такие Шамилю нравились больше других.
И только по ночам Джавгарат прислушивалась к себе – ей начинало казаться, что под ее сердцем уже бьется новая жизнь. Пусть это будет сын. У такого отца должно быть много сыновей, славы на всех хватит. А ее сын и сам станет славным джигитом. И она будет им гордиться.
Патимат была замужем уже восемь лет. Но перенесла за эти годы столько, что другим хватило бы на всю жизнь. Не успела она стать женой Шамиля и родить сына, названного Джамалуддином в честь наставника Шамиля, как муж ее чуть не погиб в башне под Гимрами. Тогда она успела убежать с младенцем к своему отцу в Унцукуль. Туда же чудом добрался и полуживой Шамиль. Слава Аллаху, что отец ее Абдул-Азиз – искусный лекарь. Несколько месяцев Шамиль находился на грани жизни и смерти, отец выбивался из сил, добывал травы для особых снадобий, а она выхаживала мужа и молила всевышнего сохранить ему жизнь.
Шамиль выжил. И первым делом отправился помогать новому имаму Гамзат-беку. Снова началась беспокойная, полная волнений жизнь, когда, прощаясь с мужем, она не знала, вернется ли он обратно.
А когда погиб Гамзатбек и имамом избрали Шамиля, она и вовсе потеряла покой. У нее родился еще один сын, названный Гази-Магомедом в честь первого имама. Семья росла, а постоянного дома все еще не было. Приходилось часто переезжать из аула в аул, обустраиваться на новом месте и думать, куда придется перебираться в следующий раз, что брать с собой, а что оставить или раздать и куда девать корову? Битвы следовали за битвами, ханы подсылали убийц, звали на помощь царские войска, и конца этому ужасу не было видно.
Красота ее увядала от вечных переживаний. Забот прибавлялось с каждым днем. Раньше ей завидовали подруги, а теперь Патимат завидовала тем, чьи мужья занимались своими делами и в войну старались не ввязываться. Когда Шамиль женился во второй раз, Патимат стало немного легче. Она не видела в этой наивной Джавгарат соперницу. Она втайне жалела ее, не знавшую, как трудно быть женой имама, тем более такого, как Шамиль, который думает о чем угодно, кроме себя и своей семьи. И не понимает, что подарки, которые он им присылает, когда долго не может вернуться, эти красивые шали и украшения, ничто по сравнению с покоем и счастьем, которые бы обрели жены, будь он рядом с ними.
За окнами послышался цокот копыт и зафыркали кони.
– Отец едет! – закричал с террасы Джамалуддин.
Джавгарат бросилась к окну и увидела, что к дому подъезжает Шамиль с наибами и своими вечными спутниками – Юнусом и Султанбеком.
– Не забудь приготовить чай, – велела Патимат, накладывая на чеканный поднос угощения.
– Как только помолятся, все должно быть готово.
Джавгарат разожгла самовар, бросив в трубу уголья из очага. Затем достала фабричный чайник и принялась накладывать заварку: обычный чай, немного шиповника, розовых лепестков, чабрец, листок мяты, чуть-чуть тмина. Такой чай был почти лекарством.
Джамалуддин слетел с террасы и принялся открывать ворота. Шамиль и гости спешились. Наибы следом за имамом вошли в дом и поднялись по лестнице на второй этаж. Обычно лестницами в саклях служили толстые бревна, на которых вырубались ступени, но для имама чиркатинцы сделали настоящую каменную лестницу, как у ханов. Да и кто были эти грешники по сравнению с имамом?
Мюриды сняли с коней седла и внесли их во двор. Затем Юнус повел коней на водопой, а Султанбек закрыл ворота и принялся насыпать овес в торбы для лошадей.
Когда приезжали гости, у Джамалуддина появлялись свои обязанности. Сначала он уважительно жал протянутые ему руки, коротко отвечал на приветствия, а затем брал небольшой кувшин с изогнутым носиком и лил воду, помогая гостям совершать омовение. Вот и в этот раз не успели гости войти, как с минарета запел будун, призывая правоверных на молитву.
Пока совершалось омовение, маленький Гази-Магомед, уже понимавший что к чему, расстелил коврики для намазов, один – впереди для отца, а остальные – за ним в ряд по числу гостей.
Шамиль встал на молитву, поднял к голове раскрытые ладони и произнес азан. Гости повторяли молитвы шепотом, а где полагалось подхватывали вслух, следуя за имамом по заведенному порядку.
Среди молитв, произносимых во время намаза, были две непременные. Первая сура Корана «Аль-Фатиха» или «АльхIам» – «Открывающая» возвещала:
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю в День Суда! Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя просим о помощи! Веди нас по дороге прямой, По пути тех, которых Ты благодетельствовал, А не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.
В сто двенадцатой суре «Аль-Ихляс» или «Къулгьу» – «Очищение» говорилось:
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Скажи: Он, Аллах – Един, Аллах – Вечный, Не родил и не был рожден И не был Ему равным ни один!
Позади старших успели стать и сыновья Шамиля. Джамалуддин уже все знал и умел, а Гази-Магомед старался повторять за братом и был горд, что хотя бы в молитве он такой же, как и взрослые.
Когда молитва закончилась, Шамиль сел на тахту, поджав под себя ноги. Ахбердилав с Ташавом-хаджи последовали его примеру. Сурхай и Али-бек сели на стулья, чтобы видеть лица свои друзей.
Жены Шамиля принесли угощения. Уходя, они хотели забрать мальчиков, но Шамиль сказал:
– Пусть расскажут, как у них дела. Все же Джамалуддин оставался старшим мужчиной в доме.
– Все хорошо, отец, – сказал Джамалуддин, почтительно опустив глаза.
– Доволен ли тобой учитель?
– Я стараюсь.
– Я слышал, он делает успехи, – похвалил Сурхай.
– Идите, – велел детям Шамиль, не считая правильным, что их хвалят при отце.
– Потом поговорим.
Дети убежали.
– Отпусти его со мной в Ирганай, я сделаю из него настоящего алима, – сказал Али-бек.
– Здесь тоже есть хорошие ученые, – сказал Шамиль.
– А кади пора сменить, – сказал Ахбердилав.
– У меня есть подходящий, – кивнул Ташав.
– Аул сожгли, теперь без дела в лесу сидит.
– Дела всем хватит, – улыбнулся Шамиль.
Затем произнес: «Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим» – и положил на кончик языка несколько крупинок соли.
– Бисмилля… – повторили гости, принимаясь за еду.
Тем временем дети Шамиля испытывали силу Султанбека. Любимым их занятием было смотреть, как он поднимает тяжеленный каток, вытесанный из горного мрамора. Им утрамбовывали после дождя земляные крыши домов. А так как двор одного дома зачастую был крышей другого, то от этого выходила двойная польза.
Султанбек легко поднял каток и поставил его стоймя. Затем вынул саблю и чиркнул ею о каток, да так, что полетели искры.
Мальчишки заворожено наблюдали. Джамалуддин провел по катку своим кинжалом – и тоже полетели искры. Гази-Магомед ухватился за брата, требуя дать кинжал и ему. Заполучив кинжал, он принялся царапать им каток и смеялся от счастья.
Когда ужин был закончен, когда унесли самовар, Шамиль сказал:
– Алхамдуллиля.
И все прочитали благодарственную молитву, прося всевышнего уделить душам ушедших в мир иной долю из того, что они съели за этим столом.
Затем явился Гази-Магомед с кувшином, чашей для мытья рук и полотенцем. Покончив с трапезой, Шамиль перешел к делам, ради которых они собрались.
В горах не только просыпалась природа, гораздо важнее было, что обновлялась, очищалась вера. Люди, освобождавшиеся от невыносимых оков своих давних владетелей, начинали понимать, что счастье неразрывно связано со свободой, что Шамиль не стяжает богатства, а трудится для их блага. Позор хоть и неявного рабства все более тяготил зависимых горцев, когда другие, по соседству, давно жили по своей воле, а если приходилось – с оружием в руках отстаивали свою независимость.
– Ханы почуяли, что под ними зашаталась земля, – говорил Али-бек Хунзахский.
– Они боятся, – добавил Сурхай Колинский.
– Уже сами рады, что царь строит на их землях крепости, надеются отсидеться за высокими стенами.
– Наш враг – не русские, – говорил Шамиль.
– С ними можно поладить, когда имеешь дело с умными генералами. Царю от этой войны никакой пользы. Вся беда от своих, от знати, которая никак не хочет расстаться со своими правами. Вот эти алчные шайтаны и ищут от нас защиты.
– Будь поблизости турки или персы, они бы и за их армиями спрятались, – согласился Ахбердилав.
– Люди от них устали, – говорил Шамиль.
– Когда ханы боролись против иноземцев, народ был с ними. Но теперь они пошли против своего народа и против нашей веры. Когда я читал проповедь в одном ауле, люди сказали, что проповедь может быть и покороче, главное, чтобы сабли были подлиннее.
– Это верно, – кивнул молчавший до того Ташав-хаджи Эндиреевский.
– Но здесь, в Дагестане, воевать трудно.
– И нам трудно, и генералам нелегко, – не соглашался Сурхай.
– Нельзя оставлять Дагестан, – поддержал его Ахбердилав.
– Лучше очистим его от недругов.
– Тут каждый аул – крепость, – говорил Сурхай.
– И до них еще добраться надо.
– В Чечне – совсем другое дело, – убеждал Ташав.
– Леса! И укрыться легко, и до царских крепостей близко. Оттуда хоть каждый день нападай.
– Леса вырубить можно, – сказал Али-бек.
– А скалы никуда не денутся.
– Скалы тоже не железные, – сомневался Ташав.
– Русские пушки вон что с Ахульго сделали, весь аул разнесли.
– Не так надо было строить, – сказал Сурхай.
– Всегда так строили, – возразил Али-бек.
– Адаты тоже были всегда, зачем же мы их искореняем? – спросил Шамиль.
– Потому что шариат лучше, – согласился Али-бек.
– Как одна большая крепость вместо сотен башенок.
– Так как же теперь надо строить? – допытывался Шамиль у Сурхая, зная его инженерные способности.
– Я кое-что придумал, – ответил Сурхай.
– Но сначала надо испробовать.
– Они обкладывают нас со всех сторон, – сказал Ахбердилав.
– Так что ты, Сурхай, думай, но только поскорей.
– Нам нужна не просто крепость, – сказал Шамиль.
– Нам нужна неприступная столица Имамата. В Чиркате и в самом деле становится тесно.
– Мы построим такую крепость, какой еще не было! – пообещал Сурхай.
– Люди должны видеть, что мы никого не боимся, – говорил Шамиль.
– Должны знать, что мы всегда готовы придти на помощь, тогда и они нас не оставят, если придется трудно. Нужно выбрать такое место, откуда можно угрожать врагу и быть для него недоступным.
– Аргвани, – предложил Ахбердилав.

– Крепкий аул.
– И расположен хорошо, – согласился Сурхай, – Но это аул. Его не переделаешь, как я задумал.
– Может, лучше уйти в Чечню? – напомнил Ташав.
– Их леса не так легко вырубить.
– Твои укрепления нам еще пригодятся, – сказал ему Шамиль.
– Но я думаю об Ахульго.
– Ахульго? – удивился Ахбердилав.
– Генералы уже знают туда дорогу, – сказал Али-бек.
– Они ее забудут, – пообещал Сурхай.
– Увидите, во что я превращу Ахульго!
Чтобы положить конец сомнениям, Шамиль твердо сказал:
– Лучшего места нам не найти.
Они еще долго обсуждали положение, сложившееся в Дагестане. Все менялось в пользу Шамиля. Но ясно было и другое: ханы и их защитники-генералы недолго будут терпеть эту горскую вольницу и всеми силами попытаются ее задушить.

Вопрос был в том, насколько окрепнет Имамат до того, как за него всерьез примутся генералы.
Затем перешли к другим делам. Решили, в каких аулах построят пороховые заводы, и освободили от военных походов жителей аулов, доставлявших серу. Договорились, как обеспечить всем необходимым ружейных мастеров. Поручили Али-беку открыть новые школы для детей мухаджиров, прибывающих в Имамат из других мест. Условились о ценах, по которым будут платить за продовольствие. И решили еще множество насущных дел.
Секретарь Шамиля Амирхан Чиркеевский лежал раненый, и его пока заменял старший сын Шамиля Джамалуддин, писавший красивым почерком.
Но сначала, чтобы немного развлечь гостей, Шамиль позвал младшего сына Гази-Магомеда и велел ему принести все, что нужно для письма. Тот понятливо кивнул и через минуту притащил старый дедовский кинжал. Гости похвалили древнее оружие, а Шамиль с деланной строгостью велел сыну все же принести бумагу, калам и чернила. Тот снова убежал и вернулся с пистолетом, саблей и ружьем, которые волок по полу с радостным усердием. Гости одобрительно улыбались.
– Вот видите, – сказал Шамиль.
– Даже этот ребенок знает, что законы в горах пишутся не чернилами, а кинжалами.
Затем он сделал знак Джамалуддину, который унес оружие, принес то, что было нужно, и приготовился писать.
– От повелителя правоверных Шамиля его братьям, – начал диктовать Шамиль.
– Мир вам. А затем…
Наутро, когда разъезжались наибы, аул был охвачен праздничной суетой. Женщины шли в дом невесты, чтобы помочь и поглядеть на приданное. Принарядившаяся молодежь гарцевала на конях, а празднично одетые девушки спешили стайками к роднику. У реки резали баранов и чистили песком большие котлы. На площади разводили костры.
Весь день Шамиль принимал посетителей, которые прибывали из разных аулов к верховному правителю за помощью, за советом, за разрешением трудных споров или с жалобами.

Имам выслушивал людей, принимал решения, а затем писал письма наибам, кадиям, джамаатам аулов и обществам. Среди посетителей попадались и клеветники, которых Шамиль сразу распознавал по их мерзким повадкам. Таким он отвечал:
– Твой наиб потому сделан наибом, что он умный, честный и ученый человек; к тому же он разбирал твое дело и знает его лучше меня. Стало быть, оно решено по справедливости. Ступай себе с Богом.
А следом слал письмо самому наибу: «О благородный брат, никогда не думай, что я помышляю относительно тебя, поверив словам доносчиков, клевещущих на тебя. Я испытал на себе деяния людей с давних пор и понял, что многие из них поступают, как собаки, волки, лисы и дьявол-искуситель. Приободрись. Распоряжайся в своем вилайете, руководствуясь высокочтимым шариатом. Запрещай им неприличные дурные поступки и распутство. Избавь себя и семью свою от того, что ненавистно твоему господу, и люди будут довольны тобой».
Курбан не стал откладывать свадьбу сына. К вечеру запела зурна, застучали барабаны и затрещали выстрелы. Это свита жениха направлялась за невестой. Заводилой процессии был шут – голосистый и бойкий парень, который за словом в карман не лез и назывался «ишаком». Следом шли аксакалы, женщины и дети. Была здесь и жена Шамиля Джавгарат, которой было интересно увидеть, похож ли этот свадебный обряд на то, как проходят свадьбы в ее родных Гимрах. И ей казалось, что ее выдавали замуж куда скромнее, а тут веселье било через край. Сын пастуха женился куда шумнее, чем имам.
Невесту выдавали не из ее дома, а из дома соседей, как было принято. Предводитель процессии попросил разрешения войти в дом и, получив его от матери невесты, перешагнул порог, приветствуя окружение новобрачной в самых почтительных выражениях. Следом вошли остальные. Гостей пригласили за стол, угостили как следует и вдоволь посмеялись над шутками-прибаутками шута-заводилы. Но когда друг жениха попросил разрешения отпустить новобрачную к мужу, ему для начала отказали. Лишь когда он повторил просьбу несколько раз, уверяя, что супруг ее не вынесет долгого ожидания, появилась, наконец, и невеста, закрытая платком, украшенная монистами, кольцами, браслетами и в старинном серебряном поясе, который обхватывал ее стройный стан.
Невесту провожали песнями, благословляя на счастливую жизнь, желая ей доброго мужа и много сыновей. Лица женщин сияли радостью, и только мать роняла слезы, как и ее дочь, покидавшая отчий дом.

До мужнего дома было недалеко, но сопровождавшая новобрачную процессия, состоявшая из ликующей свиты жениха, женщин, несших на головах подарки, и лошадей, нагруженных сундуками с приданным, шла долго. Свадебное шествие часто останавливали мальчишки, преграждая путь и требуя выкуп. Мелкие монеты и сладости постепенно расчищали путь, и, наконец, суженая добралась до своего нового дома.
Мать Курбана встретила невестку у входа, помазала ей губы медом, чтобы жизнь ее была сладкой, и повела в дом под величальную песню, которую пели собравшиеся вокруг женщины. Но невеста остановилась у порога и не переступила его, пока к ней не вывели корову и не надрезали ухо в знак того, что корова поступает в распоряжение новобрачной.
Когда невеста вошла в дом своего жениха, снова затрещали выстрелы, заиграла музыка, и молодежь пустилась в яростную лезгинку. Родственники новобрачного принялись осыпать невесту деньгами и зерном в знак будущего благополучия, а дети бросились собирать монеты.
Тем временем новобрачную усадили в особый угол, занавешенный тонким ковром, а гостей усадили за свадебный стол и принялись угощать всевозможными яствами. За отдельным столом сидел новоиспеченный муж, над которым неустанно подшучивали его приятели. Новобрачному полагалось помалкивать, а отвечал за него друг, которому приходилось отдуваться за пребывающего в счастливой эйфории приятеля.
Приходили все новые гости со своими подарками. Пришла, наконец, и Патимат. Она поздравила невесту и подарила ей красивые серьги, с которыми рассталась не без сожаления.
Звали на свадьбу и Шамиля, но сначала он был занят посетителями, а потом и сам не спешил идти. Шумное веселье казалось ему неуместным, когда в горах было так неспокойно. Праздные развлечения с музыкой и танцами сделались большой редкостью, исключение делалось только для свадеб. Но не оказать уважение старому другу Шамиль не мог и пришел поздравить молодоженов.
Веселье продолжалось до полуночи, когда новобрачных проводили в отведенную им комнату, а друг жениха занял пост у дверей, чтобы молодых никто не посмел потревожить.
Глава 12
Пока кони мчали Павла Христофоровича Граббе через необъятные просторы, отделявшие Кавказ от Петербурга, у него было время поразмыслить.
От Чернышева он ожидал всего. Этот царедворец достиг такого могущества, что дерзить ему снова у Граббе не хватало духу. Тогда, после расследования дела декабристов, император остался так доволен Чернышевым, что в день своей коронации, 22 августа, возвел его в графское достоинство.
То, что вызов в Петербург – затея Чернышева, Граббе не сомневался. Но что могло теперь вызвать неудовольствие военного министра? Неужели Граббе был неосторожен в высказываниях? Или жена сболтнула лишнего после его ночных исповедей? Или злосчастный Анреп снова выставил его на посмешище?
Граббе терялся в догадках, и оттого еще более холодела кровь, еще глубже натягивал он генеральскую шляпу с плюмажем и туже запахивал неудобную шинель, под которой топорщились генеральские эполеты.
Как ни гордился Граббе своими подвигами, а должен был признать, что и Чернышев был вояка не из последних. Аустерлиц, Наполеоновские кампании, взятие в плен французского генерала Риго и отбитие у врага двух русских генералов – Нарышкина и Винценгероде – это чего-то стоило. Граббе довелось отвозить письмо Александра к Наполеону, и он этим весьма гордился. Однако Чернышев превзошел его и на этом поприще, несколько лет прослужив обоим императорам доверенным курьером. И до того расположил к себе Наполеона, что тот был несказанно рад, когда Чернышева сделали постоянным представителем России при французском императоре. А уж там Чернышев столько шпионов наплодил, что после его возвращения в Россию их еще долго ловили и отправляли на гильотину, как Мишеля из Военного министерства.

Заслуг у Чернышева хватало, приходилось это признать, но высокомерного к себе отношения Граббе простить ему не мог. И ему казалось странным, что неоспоримая храбрость может соседствовать в столь высокопоставленном вельможе с хамством и банальным волокитством. Конечно, если молва не врет насчет любовницы Чернышева и несчастного Траскина, которому пришлось на ней жениться. Впрочем, военный министр в его прощении не нуждался. А что он задумал на этот раз, Граббе не мог и предположить. От мрачных предчувствий Граббе лишился сна. Вместо этого он впадал в некое оцепенение, проваливаясь в какую-то гудящую тьму. И там ему снова являлась ужасная гора, жаждущая его раздавить.
Вот уже начался Петербург, где Граббе все было знакомо. Нависли мрачные здания, засверкали золоченые шпили, замелькали на улицах бледные лица петербуржцев. А кони несли смятенного Граббе туда, ко дворцу, в лицемерные объятия смертельного врага.
Экипаж остановился у Зимнего дворца. Граббе ступил на Дворцовую площадь и замер от изумления. Зимний дворец, гнездо императоров, был сожжен. Только теперь Граббе начал вспоминать, сколько шуму наделал этот пожар 1837 года, когда по неосторожности прислуги сгорел великолепный дворец. Едва успели спасти гвардейские знамена и портреты из Фельдмаршальской залы да образа и святые мощи из дворцовой церкви. Огонь пощадил Эрмитаж, примыкавший к Зимнему, зато уничтожил парадные залы и покои императора.
Зимний все еще стоял без крыши, с пустыми обгорелыми глазницами окон. Граббе приехал не туда. Он решил, что это дурной знак, но ничего не оставалось, как ехать в Военное министерство.
Оно располагалось неподалеку, на Адмиралтейском проспекте, в бывшем доме князя Лобанова-Ростовского. Совет, две канцелярии и семь департаментов трудились здесь не покладая рук, зная тяжелый нрав своего начальника.
Встретивший Граббе дежурный адъютант сообщил, что князь теперь в Петергофе, у императора, куда и ему велено было ехать по прибытии в Петербург.
Измученный тревожной неизвестностью, которой он желал положить конец, Граббе бросился в Петергоф. И эти последние без малого тридцать верст вдоль Финского залива показались ему чуть ли не длиннее тех тысяч, которые он уже проехал.
Чтобы успокоиться и взять себя в руки, Граббе решил взойти ко дворцу через Аллею фонтанов и Большой каскад. Великолепие Петергофа наполнило душу Граббе благодатью. Посреди этого грандиозного величия, казалось Граббе, не могло существовать ничего, кроме царственного милосердия. Титаническая фигура золоченого Самсона, раздирающего пасть «шведского» льва, казалась восторженному Граббе олицетворением самого императора, наказующего клевету и лицемерие.
Переведя дух и перекрестившись, Граббе вошел в Большой дворец. Дежурные офицеры отдали ему честь, лакей принял шинель. Граббе подошел к стоявшему у стены большому зеркалу в затейливой раме и оглядел себя с головы до ног. При полной парадной форме, в треугольной шляпе с плюмажем он смотрелся внушительно.
Во дворце было суетно. Бегали вестовые, что-то возбужденно обсуждали сановники, торопились по срочным делам адъютанты. И никому не было дела до Граббе, который велел доложить о себе и прогуливался по дворцу, любуясь его убранством.
Император Николай I принял его в Аудиенц-зале, слепящая роскошь которого повергла Граббе в необыкновенное для него смирение.
Николай спросил Граббе о здоровье, о семье, но так, будто самого Граббе здесь не было. Император считал его доблестным генералом, но плохим подданным.
Граббе отвечал коротко, с глубоким почтением и ждал, когда будет произнесено главное, то, для чего его вытребовали из далекого Пятигорска. Но император уже смотрел в окно, как если бы вовсе позабыл про Граббе. Павел Христофорович вопросительно поглядывал то на генерал-адъютанта Адлерберга, то на дежурного генерала, но и те смотрели куда-то мимо. Все это повергало Граббе в трепет. Но тут вдруг император начал говорить:






