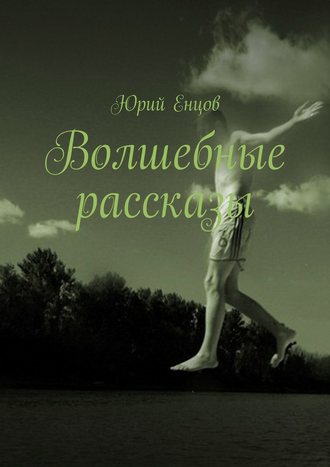
Полная версия
Волшебные рассказы
Прошел год. Начиная вспоминать, ловлю себя на мучительном: было ли все это? Так вы говорите летом? Ну не зимой же, которую я не очень люблю. Лучше всего если это будет конец весны, когда впереди целое лето, и думать о том, как оно станет тянуться долго, теплое и солнечное – удивительно приятно.
Давайте условимся, что все произошло в конце весны. Но, конечно, не просто календарной, потому, что в этот счастливый високосный год весна началась уже в феврале, когда резко прекратились морозы, и все стало таять; лето – в апреле, а закончилось только шестнадцатого сентября в половине четвертого, когда я позвонил Галатее на работу.
Уже были сданы все летние экзамены: правописанью меня учила Настасья Тихоновна, сопромат принимала украинка Марь-Иванна, русскую литературу решительный педагог Ниночка Ивановна, научный коммунизм преподавал немецкий товарищ Карл Фридрихович, давно уже сжегший свой список кораблей; зачет по атеизму и теологии мне поставил профессор Нечаев, по теории стихосложения поэт Бабаев. Химические реакции мы изучали с Парацельсом, музыку с папашей Вагнером, который, впрочем, освоил так же и науку кристаллизовать, то, что жизнь творила органично. А так же кум, дядя, брательник, в нужную минуту, явившийся к дебюту…
Еще я факультативно учил сербохорватский, так как мне казалось: что-что, а уж этот смешной язык мне не понадобится никогда.
Один великий мыслитель философ, литератор да к тому же еще королевский советник как-то заметил, что писатель своей тягой к красоте и деятельности во имя ее превосходит даже Черта. Однако он не до конца очеловеченное существо. Это чистый дух, лишенный постоянной плоти, как бы переходное состояние между материей и сознанием. Оттого сочинитель вынужден оставаться как бы внутри некой невидимой колбы и в таком не слишком удобном положении – участвовать во всем что вокруг происходят…
Чаще всего я был приглашаем к ней домой, а не на место работы, где, продемонстрированный кому надо, уже мог не появляться без нужды. Заехав как-то вечером, я предложил Галатее погулять. Побродить по нашей округлой планете, на которой совершенно невозможно удержаться от тычка легкой, мягкой шутки. Плоская прямота несносна при таком ландшафте, в коем приятнее, скользя и перебегая, напевать попурри и, между делом дерзко мяукать, выходящим из ресторана прохожим.
Простите, о, простите меня!
Целый день, просидев дома, она с удовольствием согласилась. Запорхала по своей цветочной квартирке, где зеленело в каждой комнате, цветы росли или, как минимум, были нарисованы на обоях. Она принесла откуда-то свою черную бархатную юбку.
– Я надену ее, – сказала она, глядя на меня своими счастливыми близорукими глазами.
– Буду ужасно рад, – ответил я, – ты опять показала замечательный вкус. Эта юбка очень подойдет к сегодняшнему вечеру.
Это была ее единственная юбка. Правда, у нее еще имелись джинсы, о которых я уже говорил, сарафан, две блузки – с рукавами и без, смертельно модная белая «летучая мышь» машинной вязки с искрой, которую ей подарили на день рожденья и, чуть не забыл, была еще одна юбка – цвета беж, но вечером в ней было бы – не очень.
В черной юбке и белой блузке с черным же бархатным шнурочком, завязанным бантом у горла, она была неотразима, ходила так на работу, где сидела за маленьким столом с большущей пишущей машиной, и в гости, и в разные другие места; принимала в этой одежде меня и поэтому я с ней – хорошо познакомился.
Малышка надела свою черную велюровую юбку, белую шелковую рубашонку с перламутровыми пуговицами, оттеняющую ее кожу цвета слоновой кости, черный, продуманный шнурок на шею и прочее, и мы опустились на лифте в преисподенную глубину весенней улицы, понемногу переходившей в весенний город, весь наполненный солнечными пятнами, сырой тенью, свежим ветром, то теплым, то прохладным. Впрочем, я, кажется, описал приметы лета, хотя было опрометчиво заявлено, что действия разворачивались весной.
Мы прошли по Первой Солнечной улице, свернули на Вторую Сумрачную, одной стороной которой был красный каменный забор с железными, двигающимися на колесиках, звучащими воротами ликероводочного завода, другой же ее стороной – являлось нечто вроде полуразрушенного гуннами Атиллы храма Бахуса-Аполлона, или еще какого-нибудь древнего любителя выпить. То есть, конечно, это была пустая городская церковка – реставрируемый теперь памятник архитектуры с элементами романского стиля. Обилие угля в церковном дворике свидетельствовало о том, что в соборе пока что располагалась кочегарка.
С высоты птичьего полета – из окон дома, где проживала моя девочка, эта церковь похожа на ажурную табакерку. Вблизи же она превращалась в огромный, временно языческий, храм. Он пуст и жрецы убиты. Оскверненный, но святой. Ибо живы боги по своей обременительной обязанности оставаться бессмертными и витать над своим капищем, высматривая живых людей, видящих в храме не груду прихотливо обтесанного камня, а памятку вечных истин.
– Жутковато смотреть на пустые окна,– сказала Галатея, прижимаясь к моей руке. Нам в лица пахнуло прохладой с текущей неподалеку реки. Я почувствовал запах, вызывающий смутные желанья, напоминающий – нечто неопределенное. Облако закрыло дневное свечение над деревьями и отвлекло меня от привычного решания давно разгаданной, да и не требующей ответа аксиомы: зачем я живу? Что-то в этом роде принес ветер в запахе с речки, хотя лексическая расшифровка запахов – занятие неблагодарное в силу своей приблизительности.
Галатея шла со мной рядом, как ни в чем не бывало, держась за мою руку. Внезапно она остановилась:
– Что-то мне дурно, голова закружилась, – сказала она как о глупом и забавном курьезе.
– Жутковато, говоришь? – переспросил я, увлеченный тем, что из-за поворота показалась, стремительно подхваченная порывом ветра, горящая прошлогодняя листва, неосторожно уничтожаемая дворником памятного места. Он сам не выскочил следом, ловя испепеляющиеся сокровища прошлой осени и разный другой мусор, предоставя всем кто хочет – поступать с дымным завихрением как им заблагорассудится; и дым послушно обрел для меня форму толпы грязных коротышек в замшевых пестрых куртках, меховых шапках. Гунны размахивали короткими мечами. «Какие красавцы» – подумал я, преодолевая в себе опрометчивое желанье, броситься проч.
В небольшом женском теле Галатеи я почувствовал неопределенный импульс отстранения, короткий, как случайный мажорный аккорд в ее репертуаре, потом она снова качнулась ко мне, уходящая, но почти спокойная. Опуская ресницы под тяжестью туши, уцепилась за мою руку, которая слегка одеревенела оттого, что я смотрел туда, откуда неслась на нас с воплями косматая орда.
«Представьте себе – подумал я.– Они появились из-за угла патрицианского дома, в окнах которого мелькали языки пламени, а на мраморе лестниц лежали окровавленные люди, некоторые были еще живы. Их ненасытные убийцы неслись на нас, размахивая своими черными топорами и короткими латинскими мечами с назастывшими каплями на лезвиях. Впереди на злобном пегом коньке чуть повыше пони скакал грязный всадник со спутанными волосами и лицом темном от пыли».
У Галатеи подкосились ноги, я почувствовал, как она оседает книзу. Перехватив ее на полпути к земле, взяв на руки, я снова посмотрел на варваров, оказавшихся (пока я проделывал свой долг вежливости по отношению к любимой) уже подле нас. Всадник, остановил на полном скаку лошадку, спрыгнул с нее и, бросив ременные поводья подскочившему войну, оказался женщиной.
Это была предводительница данной десятки или, что в сущности одно и то же, царица этого народа со своими телохранителями. Тонкая кольчуга поверх льняной рубахи, защищая от ножей, ничего не скрывала от глаз. Лицо, измазанное сажей, было совсем не лицом гуннки, коих Аэций, помнится, так недолюбливал, хотя и спал с ними периодически. Белая красавица обратилась ко мне на языке своих спутников, который знала неплохо:
– Вы такие разные, – сказала она.
Я промолчал, но из вежливости улыбнулся. Странно услышать такое посреди горячащего грабежа, когда войны, готовые делать свое дело, посматривают на маруху-предводительницу в ожидании знака. Поступки дам непредсказуемы для меня.
– Вы любите друг друга? – спросила она.
– Я люблю, а она девушка и не любить кого-нибудь не может.
Амазонка прыснула, было смехом, но, быстро сделавшись серьезной и, опустив глаза, замолчала, словно заинтересовалась узором каменной мостовой.
– Ты дерзок, – наконец произнесла она полувопросительно.
– Да что вы, – сказал я, перекладывая поудобнее мою бесчувственную ношу и думая о том, что в продолжение разговора стоять на коленях было бы полегче. – Я всего лишь не в меру откровенен.
– Недостаток в наше время.
– Как и во все прочие, – сказал я.
– Ты не боишься, что тебя убьют? – спросила она, откинув голову, и в улыбке, показывая прекрасные зубы на запыленном лице. Я не знал ответа на этот вопрос, но промолчать значило показаться неучтивым.
– Пока что я боюсь только своей гордости. – Ответил я. – Это, во-первых. Во-вторых, сейчас никого не убивают, разве что по ошибке. Ну и, в-третьих, вы ведь – мираж!
– Что-то очень далекое? Но неверно воспринимаемое, в силу каких-то причин, как близкое? – произнесла она медленно, словно бы думая вслух как это бывает с людьми не часто задумывающимися. – Однако теперь мы приблизились к тебе, и, называй это как хочешь, но ты запросто можешь погибнуть.
– Только не от вашей руки. Ведь мы похожи. Я точно так же опускаю глаза.
Наша скромница амазонка улыбнулась едва заметно, в ответ на мое мужественное признание в недостатке мужественности и, крикнув своим войнам, чтобы не трогали нас, вскочила на коня и унеслась вместе со своей вонючей оравой…
Мы стояли на изгибе улицы, которая, вильнув, спускалась к реке. Галатея очнулась от обморока и попросилась на землю. Поставив ее на ноги, я почувствовал своим животом ее вяло тукающее оживающее сердце, которым она прислонилась ко мне.
– Ты, наверное, беременна, – сказал я. Она слабо засмеялась:
– Постучи по дереву!
– Нет ничего подходящего кроме моей глупой деревянной головы,– ответил я дежурной шуткой того сезона.
Усатый таксист притормозил, проезжая мимо нас, потом потихоньку покатил вниз по улице, свернул на набережной по направлению к Лефортовскому мосту.
– Что я бухнулась-то? – задала она вопрос похожий на риторический, потирая висок пальцем с облупившемся лаком на ноготке.
– Бедная Галатея, – сказал я непослушным голосом, стараясь изо всех сил придать ему больше нежности. Я обнял ее за плечи, провел пальцем по мокрой щеке, старательно изображая искреннюю нежность. – Сейчас весна, ты еще не окрепла. Пойдем домой?
– Мы же только что вышли,– проговорила она задумчиво и немного подозревающе, потом добавила, быстро успокаиваясь от этой последней мысли,– что касается слабости, то это не только от весны.
– Но я же не виноват, что так люблю тебя.
– Я не виню, наоборот, – она, надув губки, стала копаться одной рукой в сумочке, достала пудреницу с зеркальцем, посмотрелась туда и кокетливое выражение сменилось озабоченным. – Ужасно, так домой нельзя идти, мама сразу заметит.
– Посидим в парке, купить тебе лимонаду? Магазин еще открыт.
Она отказалась, держась за меня, и, постепенно принимая свой обычный вид независимой женщины, прогуливающей своего избранника, – ступила с тротуара на проезжую часть улицы, за которой, прикрытый декорациями стареньких строений, начинался небольшой парк.
– Посмотри, какой домик.
– Замечательный,– подтвердил я, – ему лет сто пятьдесят. Вообрази, сколько раз зажигался и гас свет в этих пыльных сейчас окнах на двух этажах, до того момента пока не окончательно износилась проводка. Внешне не изменилось ничего, все тот же вид на церковь и спуск к реке… Дом стоит и стоит, последние семь десятилетий вовсе без ремонта, который и не нужен, ведь старый мир полагается разрушить до основания, а домик – его непременная принадлежность. Когда его построили, улица была мощеной и, должно быть, по ней от берега вверх возили на телегах дрова… А сама Яуза текла без всякой набережной, бетона и гранита, и весной вода доходила во-он аж докуда.
– А кто в нем жил?
– Разные люди. Сначала некий владелец винокуренного завода, или его управляющий. Потом другие, их сменилось немало.
– А сейчас, – спросила она с интересом.
– Никого. Он пуст. Его ночное одиночество скрашивают старые кошки и приведенья.
– Ну тебя, – она шлепнула меня по запястью, не оценив моей деликатности, так как среди жителей старого домика мимо которого мы проходили, я не назвал бездомных и наркоманов, которые жили где хочется и как хочется, пользуясь своей забытостью.
Мы обошли дом, из-под самых стен которого, росли кусты, а на дверях его Андреевским крестом были прибиты доски и висел ржавый замок, легко открываемый гвоздем.
– Скоро будет парк, – сказала Галатея, – мы там гуляли в детстве всей семьей, давно-давно.
– Ну, что ж, повторим, если тебе было хорошо в том парке. Кстати, он был волшебный?
– Нет, откуда взяться волшебному парку у такой обыкновенной девочки. Но там было просто замечательно, – сказала она и, погрузившись в воспоминания, замолчала. Я поглядывал на нее сбоку и не мог поверить, что этот королевский профиль скрывает мысли о, недопечатанном квартальном отчете бухгалтерии. Ее ладонь подрагивала в моей, и мы шли к парку ее детства. Шагая по дорожке, с обеих сторон окаймленной разросшейся живой изгородью, колючим бордюром из акаций, я никак не мог понять: вошли ли мы уже или еще нет.
Дорожка, повернув в сторону, растворилась на пустыре, мы остались одни перед вратами с сеткою поверху и держащими ее двумя столбами, рассекающими таким образом фигурно-гипсовый, давно не беленый парапет. Рядом с воротами стоял некто и курил. Его я и спросил:
– Скажите, мы входим или выходим?
– Вы стоите перед воротами, – ответил он, ничтоже сумняшись, затягиваясь папиросой. Выдержав его скептический взгляд, я продолжил беседу:
– Конечно. Но, если мы войдем, – мы «войдем» или «выйдем»?
– Смотря куда, – ответил он спокойным голосом, но нервно поправил черный пиджак, накинутый на худые плечи.
– А как вы думаете?
– Ну… тут все просто: девушка хочет выйти замуж, а вы – выйти из создавшегося положения.
Галатея рассмеялась от этих слов, которым, конечно, поверила только на свою половину.
– Ну и что ждет нас там? – не унимался я. Он ответил пожатьем плеч или просто поправлял сползающий пиджак.
Мы продолжили путь. Незнакомец раздраженно исчез, но мимо нас потянулись модные парочки: мужчины в нарочито мешковатых штанах и дамы в ярком. Разговаривая и смеясь, они как-то странно напевали: «Зачем, зачем на белом свете-е?», вместо того, чтобы как все нормальные люди петь: «Я-яблоки на снегу!». Детей не было, семейные уходят раньше.
Близорука прищуриваясь, Галатея разглядывала проходящих, или, быть может, это было следствие лучей, светивших на нас последним усильем, скрывающегося за бетонные жилые параллелепипеды, солнца, облагораживавшего их розоватыми тонами.
– Тебе не холодно? – спросил я.
– Немножко. – Последовав примеру закатных силуэтов, я снял пиджак и укутал им мою трепетную спутницу. Она в нем удобно устроилась, пиджак выглядел на ней шинелью.
– Зайдем?
– Уже поздно.
– Ну, на минутку, – попросил я и, не дожидаясь ответа, повлек ее в вечерний сумрак алей, чтобы в нем затеряться.
Вдоль засыпанных влажным песком дорожек, на свежих газонах тянулась ввысь тонкая трава, производившая впечатленье первой травы на земле. Словно бы до нашего появленья тут ничего еще не было: ни травы, ни людей, ни самих деревьев. Но как же они появились в таком изобилии с густейшей темно-зеленой листвой, поглощающей свет закатного солнца?
Уже не осталось даже розовых лучей, оседая на землю, они темнели, становились малиновыми, пурпурными, фиолетовыми и, наконец, исчезали вовсе из видимого спектра. Обыкновенно это состояние природы называют ночью. Хотя, возможно, все развивалось не совсем так, ведь летние вечера тянутся долго, ночь приходит на мгновенье, как закрытие век, и снова вдруг, из всех пор мирозданья сочится свет. А потом появляется само светило, обновленное и упругое как кусочек оранжевой ртути.
Но тогда оно только исчезало где-то на западе, скрытое листвой. Мы прошли немного по аллее. Деревья поредели, и впереди показалось небо над пустынной площадкой.
– Это стадион, – сказала Галатея, – мы можем посидеть на скамеечке.
– Стадион, – повторил за ней я, чтобы как-то зафиксировать свое присутствие. Мы вошли в ряд сидений на коротком естественного происхождения, склоне пологого спуска к реке. Низ амфитеатра, на галерке которого мы устроились, терялся в полумраке. Рядом с нами вокруг кое-где сохранились доски сидений, а в большинстве они были каменные – бетонные, с торчащими тут и там железными штырями.
– Похоже на цирк, – сказал я, садясь и усаживая рядом мою спутницу. Покрытые мхом ряды бетонных сидений с торчащими запятыми ржавого металла вызвали в памяти картинку прошлого лета, когда, обнаружив на берегу отполированный волнами кусок бетона, я подумал, что это произведение человеческих рук так похоже на кусок божественного гранита. Галатея совершенно не поняла меня:
– На Новый? – спросила она.
– На совсем-совсем старый, – пояснил я с обращенной в полутьму улыбкой королевиного шута, – на Цирк времен Республики.
– Какой? – спросила она из сумрака, словно из морской пучины.
– Той, что была до Империи… Римской, конечно же, Римской, все остальное плагиат, – сказал я ласковым шепотом раздеванья. Мне хотелось, чтобы получился именно такой, после которого женщина не обижается на односложные ответы, не имеющие к тому же отношения к ней, к ее глазам, фигуре, нарядам. Я был уверен, что ласково сказанная фраза может быть односложной: да, нет; она может быть, по сути, резкой, но не выглядит грубостью; она может быть грубостью, но воспринимается как ласка.
Мы замолчали и посидели, прижавшись, глядели в темноту, слушали звуки ночного города и интимные звучанья внутри нас, немного смущавшие меня. Город, вокруг нас, был огромен, но его мощь легко скрывала темная листва. Мне казалось, что должно произойти что-то не улавливаемое ни сознаньем, ни чувством, только чем-то таким осторожным, живущим в самом дальнем закутке души, существующим ради этой души, но появляющимся очень редко, как бы случайно, его появление может легко пройти незамеченным.
– Хочешь в Рим? – спросил я, довольно неуклюже пытаясь объяснить происходящее со мной.
– В Античный или современный, – переспросила она, добросовестно пытаясь понять собеседника. Она смотрела на меня, сквозь сгущающуюся темноту, глаза поблескивали, неизвестно что отражая.
– Современность становится особенно интересна через тысячу-другую лет. Жаль, что к тому времени нас уже не будет, меня мало волнует сегодняшнее.
– А я? – спросила она неожиданно серьезно и требовательно. В ее глазах угадывался этот полускрытый тьмой вопрос и требование не медлить с ответом. Но, поскольку мне казалось, что прежде я видел в них и мольбу, то глаза меня в тот миг заинтересовали меньше чем губы, полностью скрывшиеся во тьме. Я коснулся их ртом, размышляя о парке, которым не пользовался никто кроме нас и местных мальчишек, похожих иногда на эринний. Он скрылся в безвременье, не афиширует себя меж домов и забыт напрочь. Каждый видит в нем что хочет, кто-то – один из Лефортовских парков в двух автобусных остановках от старинной Гошпитали, кто-то – спасенный от вырубки лесок, кто-то – заросший самостийным лесом динамовский стадиончик.
В общем, люди запамятовали, а он не напоминает о себе, хотя сам – все помнит. Должно быть, у него есть причины и чтобы помнить, и чтобы не напоминать.
– Сейчас зажгут фонари и выгонят зверей. Сразимся? Ты слышишь их рычанье?
Потершись щекой о мое плече, она поерзала и, изменив позу, переложила руки ко мне на колени при этом, случайно опершись на топорщение мужских брюк, ойкнула, а потом опять ласково потрогала матерчатый бугорок – уж нарочно. Трудно ошибиться, комментируя последствия этого легчайшего прикосновения, ничего кроме расслабления в мыслях и напряжения в теле оно вызвать не может. Но любое движение следует соразмерять с ситуацией, и я не последовал ее примеру и не стал грубо лезть к ней в трусы, а сначала поцеловал, сказал нежнейшим голосом несколько приятных слов, например: солнышко мое ночное и так далее.
Потом, сунув руку под знаменитую «летучую мышь», которая отсвечивала искорками далекие звезды, и обнаружил там, на прежнем месте мягкие небольшие теплые грудки, безропотно поддавшиеся моим пальцам. Ее реакцией стало учащенное дыханье, она прильнула ко мне, и не стоило большого труда переместить ее к себе на колени, что облегчило доступ к ногам, а так же всему самому приятному. Очень скоро она задрожала, подставляя темноте и моей ладони свои ягодицы, выскользнувшие из трусиков. Вся она с оголенной попкой легко уместилась на моих коленях, держась слабой ладонью как за рычаг за вдруг ставший таким тесным гульфик моего камзола.
Разложив ее на коленях как лютню, я левой рукой взял ее соски, а правой изрядно повлажневшей, водил по промежности бархатистого персика, прощупывая не столь уж далекие косточки и обильную мякоть, которая все белее доверчиво отдавалась моей руке. Наконец, очень быстро, она застонала тихо и мелодично, так как давно была приручена, приучена к рукам, после чего кофточка на ней стала чуточку влажной.
Мы ненадолго затихли, прислушиваясь к звукам ночного города за кустами. Потом она прильнула губами к моей руке, пахнущей потом ее подмышек, прижалась ко мне и через некоторое время стыдливо спросила: «Хочешь я поцелую тебя сюда?». Вместо ответа я услужливо расстегнул молнию, и мраку ночи предстало нечто, прежде столь стесненное и напоминающее кому-то нефритовый стержень, кому-то вызывающее воспоминание о лабораторной колбе.
Пробежав муравьиными прикосновеньями по самому чувствительному из рычагов, она склонилась к нему и робко коснулась губами. Позабавлявшись таким образом, она, кажется, собралась, было домой, но я напомнил, что теперь моя очередь порадоваться жизни, если уж мы никак не научимся делать это одновременно. Она деловито поинтересовалась, как я позабочусь о последствиях, но я продемонстрировал свежую упаковку презерватива и, тут же распечатав его, натянул тончайшую пленку на, все еще сжимаемый ее ладошкой, разросшийся участок моего тела. Потом я пристроился к ней сзади и долго, целую вечность пытался войти в нее, но, отчужденный резиновым колпачком, очень не сразу сумел это сделать. Когда, наконец, получилось – был почти счастлив. Мы постояли на коленях, без мыслей об эдемовом змие; девочка, ища самую нежную точку для того, чтобы вовремя перевернуть свой внутренний мир, поклонилась навстречу тьме, предоставив мне, слабенькое свечение своего округлого зада, по которому как-то сами собой скользили мои ладони.
Первая волна восторга сменилась затишьем, Галатея приподнялась с травы, предоставив мне вывалившиеся из бюстгальтера груди, это стало причиной моего второго сладостного усилья. Но и оно завершилось неторопливым покоем. Проехала где-то далеко машина, никаких других звуков в этой тьме и этом мире не донеслось до нас. Подумав, стоит ли форсировать событья, я закрыл глаза и этим, без излишних стараний, сконцентрировался на нужной в данный момент чакре своего тела. Вся энергия из его органов потекла-потекла туда вниз, хлестнула, вернулась обратной волной и маленьким, персональным атомным взрывом – выплеснулась во вселенную из стеклянной колбы, разбитой у ступенек ее трона.
Было очень тихо, и только где-то за деревьями проносились автомобили, да с реки долетал звук мотора, работающего там пароходика. Наступила ночь. И в тот момент, когда тьма достигла наибольшей плотности, когда стало ясно, что темнее сегодня уже не будет, разве что если умрешь, откуда-то сверху начал падать голубоватый свет. Сначала он был едва заметен, но его невозможно было спутать со светом уходящего дня, потому что граница света и тьмы, хотя коротко, но обозначилась. Потом свет усилился и стал разгонять мрак вокруг, и, наконец, достиг такой силы, что мы поняли: он не чудится, а существует на самом деле.
– Странно, – сказала Галатея, – откуда этот свет?
– Зажглись фонари, – объяснил я, – один из них висит прямо над нами.
– Странно. На чем же он висит?– сказала она, посмотрев вверх, – в листве совсем не видно. Похоже, что его повесили прямо на ветку.
Подняв голову, я увидел яркий бело-голубой шар, наполовину спрятавшийся в листьях. Вокруг него носилась мелкая крылатая живность.
– Нам пора, – сказал я.
– Пойдем, – Галатея присела на скамью, натягивая трусики,– я не думала, что мы так задержимся.
– В моем образе ты видишь олицетворение идеи творящей человечности.




