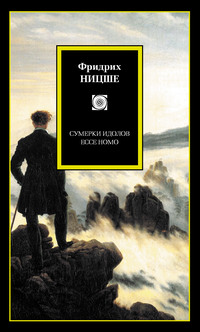Полная версия
По ту сторону добра и зла
Мы же, люди иной веры, – мы, которые видим в демократическом движении не только форму упадка политической организации, но и форму упадка, именно, форму измельчания человека, как низведение его на степень посредственности и понижение его ценности, – на что должны мы возложить свои надежды? – На новых философов – выбора нет; на людей, обладающих достаточно сильным и самобытным умом для того, чтобы положить начало противоположной оценке вещей и переоценить, перевернуть «вечные ценности»; на предтеч новой эры, на людей будущего, закрепляющих в настоящем тот аркан, который влечет волю тысячелетий на новые пути. Чтобы учить человека смотреть на будущность человека как на свою волю, как на нечто зависящее от человеческой воли, чтобы подготовить великие отважные коллективные опыты в деле воспитания и дисциплинирования с целью положить этим конец тому ужасающему господству неразумия и случайности, которое до сих пор называлось историей, – неразумие «большинства» есть только его последняя форма: для этого когда-нибудь понадобится новый род философов и повелителей, перед лицом которых покажется бледным и ничтожным все, что существовало на земле под видом скрытных, грозных и благожелательных умов. Образ таких именно вождей чудится нашему взору – смею ли я сказать это во всеуслышание, вы, свободные умы? Обстоятельства, которые должны быть частично созданы, частично использованы для их возникновения; вероятные пути и испытания, с помощью которых душа могла бы достигнуть такой высоты и силы, чтобы почувствовать побуждение к этим задачам; переоценка ценностей, под новым гнетом, под молотом которой закалялась бы совесть и сердце превращалось бы в бронзу, чтобы вынести бремя такой ответственности; с другой стороны, необходимость подобных вождей, страшная опасность, что они могут не явиться или не удаться и выродиться, – вот что, собственно, озабочивает и омрачает нас, – знаете ли это вы, свободные умы? Это тяжелые, далекие мысли и грозы, проходящие по небосклону нашей жизни. Едва ли что-нибудь может причинить больше страданий, чем некогда увидеть, разгадать, прочувствовать, как выдающийся человек выбился из своей колеи и выродился. А кто наделен редкой способностью прозревать общую опасность, заключающуюся в том, что сам «человек» вырождается, кто, подобно нам, познал ту чудовищную случайность, которая до сих пор определяла будущность человека, – в чем не была замешана не только рука, но даже и «перст Божий»! – кто разгадывает то роковое, что таится в тупоумной незлобивости и доверчивости «современных идей», а еще более во всей христианско-европейской морали, – тот испытывает такую тоску и тревогу, с которой не сравнится никакая другая. – Ведь он охватывает одним взглядом все то, что при благоприятном накоплении и росте сил и задач еще можно было бы взлелеять в человеке, он знает всем знанием своей совести, как неисчерпаем еще человек для величайших возможностей и как часто уже тип «человек» стоял перед таинственными решениями и новыми путями; еще лучше знает он по самым мучительным своим воспоминаниям, о какие ничтожные преграды обыкновенно разбивались в прошлом существа высшего ранга, надламывались, опускались, становились ничтожными! Общее вырождение человека, вплоть до того «человека будущего», в котором тупоумные и пустоголовые социалисты видят свой идеал, – вырождение и измельчание человека до совершенного стадного животного (или, как они говорят, до человека «свободного общества»), превращение человека в карликовое животное с равными правами и притязаниями возможно, в этом нет сомнения! Кто продумал когда-нибудь до конца эту возможность, тот знает одной мерзостью больше, чем остальные люди, – и, может быть, знает также новую задачу! —
Отдел шестой: Мы, ученые
204Рискуя, что и здесь морализирование окажется тем, чем оно было всегда, – именно безбоязненным montrer ses plaies[44], по выражению Бальзака, – я отваживаюсь выступить противником того неподобающего и вредного смещения рангов, которое нынче грозит произойти между наукой и философией совершенно незаметно и как бы со спокойной совестью. Полагаю, что нужно иметь право высказывать свое мнение о таких высших вопросах ранга на основании своего опыта – а опыт, как мне кажется, значит всегда скверный опыт? – чтобы не говорить, как слепые, о цветах или как женщины и художники говорят против науки («ах, эта скверная наука! – вздыхают они, покорные своему инстинкту и стыдливости. – Она всегда разоблачает!» —). Провозглашение независимости человека науки, его эмансипация от философии есть одно из более тонких следствий демократического строя и неустройства; самопрославление и самопревозношение ученого находится нынче всюду в периоде полного весеннего расцвета, – однако это еще не значит, что самовосхваление в этом случае смердит приятно. «Долой всех господ!» – вот чего хочет и здесь инстинкт черни; и после того как наука с блестящим успехом отделалась от теологии, у которой она слишком долго была «служанкой», она стремится в своей чрезмерной заносчивости и безрассудстве предписывать законы философии и со своей стороны разыгрывать «господина», – что говорю я! – философа. Моя память – память человека науки, с позволения сказать! – изобилует наивными выходками высокомерия со стороны молодых естествоиспытателей и старых врачей по отношению к философии и философам (не говоря уже об образованнейших и спесивейших из всех ученых, о филологах и педагогах, являющихся таковыми по призванию —). То это был специалист и поденщик, инстинктивно оборонявшийся вообще от всяких синтетических задач и способностей; то прилежный работник, почуявший запах otium и аристократической роскоши в душевном мире философа и почувствовавший себя при этом обиженным и униженным. То это был дальтонизм утилитариста, не видящего в философии ничего, кроме ряда опровергнутых систем и расточительной роскоши, которая никому «не приносит пользы». То на сцену выступал страх перед замаскированной мистикой и урегулированием границ познавания; то пренебрежение отдельными философами, невольно обобщившееся в пренебрежение философией. Чаще же всего я находил у молодых ученых за высокомерным неуважением к философии дурное влияние какого-нибудь философа, которого они хотя в общем и не признавали, но тем не менее подчинялись его презрительным оценкам других философов, следствием чего явилось общее отрицательное отношение ко всей философии. (Таковым кажется мне, например, влияние Шопенгауэра на современную Германию: проявлением своей неразумной ярости по отношению к Гегелю он довел дело до того, что все последнее поколение немцев порвало связь с немецкой культурой, которая была вершиной и провидческой тонкостью исторического чувства; но именно в этом случае сам Шопенгауэр оказался до гениальности бедным, невосприимчивым, не немецким.) Говоря же вообще, быть может, прежде всего человеческое, слишком человеческое, короче – духовная убогость самих новейших философов радикальнейшим образом подорвала уважение к философии и раскрыла ворота плебейскому инстинкту. Сознаемся-ка себе, до какой степени далек от нашего современного мира весь род Гераклитов, Платонов, Эмпедоклов – и как там еще не назывались все эти царственные, великолепные отшельники мысли; сознаемся, что перед лицом таких представителей философии, которые нынче благодаря моде так же быстро всплывают наружу, как и проваливаются, – как, например, в Германии оба берлинских льва, анархист Евгений Дюринг и амальгамист Эдуард фон Гартман, – бравый человек науки с полным правом может чувствовать себя существом лучшего рода и происхождения. В особенности же способен заронить недоверие в душу молодого, честолюбивого ученого вид тех философов всякой всячины, которые называют себя «философами действительности» или «позитивистами»: ведь в лучшем случае сами они ученые и специалисты – это ясно как день! – ведь все они суть побежденные и вновь покоренные наукой люди, которые некогда захотели от себя большего, не имея права на это «большее», не имея права на ответственность, – и которые теперь с достоинством, но питая чувство злобы и мести, являют словом и делом неверие в царственную задачу и царственное значение философии. В конце концов, как же и могло быть иначе! Наука процветает нынче и кажется с виду чрезвычайно добросовестной, между тем как то, до чего постепенно принизилась вся новейшая философия, этот остаток философии наших дней, возбуждает недоверие и уныние, если не насмешку и сострадание. Философия, сокращенная до «теории познания», фактически являющаяся не более как боязливой эпохистикой[45] и учением о воздержании; философия, которая вовсе не переступает порога и с мучениями отказывает себе в праве на вход, – это философия при последнем издыхании, некий конец, некая агония, нечто возбуждающее сострадание. Как могла бы такая философия – господствовать!
205Опасности, грозящие нынче развитию философа, поистине столь многообразны, что, пожалуй, впору усомниться, может ли еще вообще созревать этот плод. Объем и столпотворение башни наук выросли до чудовищных размеров, а вместе с тем и вероятность, что философ устанет уже быть учащимся или остановится где-нибудь и «специализируется», так что ему уже будет не по силам подняться на свою высоту, откуда он сможет обозревать, осматривать, смотреть сверху вниз. Или он достигнет ее слишком поздно, когда уже минует его лучшая пора и ослабеют его силы; или он достигнет ее испорченным, огрубевшим, выродившимся, так что его взгляд, его общее суждение о ценности вещей будут иметь уже мало значения. Быть может, именно утонченность его интеллектуальной совести заставляет его медлить по пути и мешкать; он боится соблазна стать дилетантом, сороконожкой и насекомым с тысячью щупальцев, он слишком хорошо знает, что человек, потерявший уважение к самому себе, уже не повелевает и как познающий уже не ведет за собою, – разве что если бы он захотел стать великим актером, философским Калиостро и крысоловом духов, словом, соблазнителем. Это было бы в конце концов вопросом вкуса, если бы даже и не было вопросом совести. Трудности, выпадающие на долю философа, усугубляет еще то обстоятельство, что он требует от себя суждения, утвердительного или отрицательного, не о науках, а о жизни и о ценности жизни, – что ему нелегко дается вера в свое право или даже обязанность на такое суждение, и только на основании многочисленных, быть может, тревожнейших, сокрушительнейших переживаний, часто медля, сомневаясь, безмолвствуя, он должен искать своего пути к этому праву и к этой вере. В самом деле, толпа долгое время не узнавала философа и смешивала его то с человеком науки и идеальным ученым, то с религиозно-вдохновенным, умертвившим в себе все плотское, «отрекшимся от мира» фанатиком и пьянчугой (Trunkenbold) Божьим; и если даже в наши дни доведется услышать, что кого-нибудь хвалят за то, что он живет «мудро» или «как философ», то это означает не более как «умно и в стороне». Мудрость: это кажется черни чем-то вроде бегства, средством и искусством выходить сухим из воды; но истый философ – так кажется нам, друзья мои? – живет «не по-философски» и «не мудро», прежде всего не умно, и чувствует бремя и обязанность подвергаться многим испытаниям и искушениям жизни: он постоянно рискует собою, он ведет скверную игру…
206По сравнению с гением, т. е. с существом, которое производит или рождает, беря оба слова в самом обширном смысле, – ученый, средний человек науки всегда имеет сходство со старой девой: ибо ему, как и последней, незнакомы два самых ценных отправления человека. В самом деле, их обоих, и ученых и старых дев, как бы в возмещение признают достойными уважения – в этих случаях подчеркивают то, что они достойны уважения, – и к этому вынужденному признанию присоединяется в равной степени досада. Рассмотрим подробнее: что такое человек науки? Прежде всего это человек незнатной породы, с добродетелями незнатной, т. е. негосподствующей, не обладающей авторитетом, а также лишенной самодовольства породы людей: он трудолюбив, умеет терпеливо стоять в строю, его способности и потребности равномерны и умеренны, у него есть инстинкт чуять себе подобных и то, что потребно ему подобным, – например, та частица независимости и клочок зеленого пастбища, без которых не может быть спокойной работы, то притязание на почет и признание (которое предполагает прежде всего и главным образом, что его можно узнать, что он заметен —), тот ореол доброго имени, то постоянное скрепление печатью своей ценности и полезности, которому непрерывно приходится побеждать внутреннее недоверие, составляющее коренную черту зависимого человека и стадного животного. Ученому, как и подобает, свойственны также болезни и дурные привычки незнатной породы: он богат мелкой завистью и обладает рысьими глазами для низменных качеств таких натур, до высоты которых не может подняться. Он доверчив, но лишь как человек, который позволяет себе идти, а не стремиться; и как раз перед человеком великих стремлений он становится еще холоднее и замкнутее, – его взор уподобляется тогда строптивому гладкому озеру, которого уже не рябит ни восхищение, ни сочувствие. Причиной самого дурного и опасного, на что способен ученый, является инстинкт посредственности, свойственный его породе: тот иезуитизм посредственности, который инстинктивно работает над уничтожением необыкновенного человека и старается сломать или – еще лучше! – ослабить каждый натянутый лук. Именно ослабить – осмотрительно, осторожной рукой, конечно, – ослабить с доверчивым состраданием: это подлинное искусство иезуитизма, который всегда умел рекомендовать себя в качестве религии сострадания. —
207Какую бы благодарность ни возбуждал в нас всегда объективный ум, – а кому же не надоело уже до смерти все субъективное с его проклятым крайним солипсилюбием (Ipsissimosität)! – однако в конце концов нужно научиться быть осторожным в своей благодарности и воздерживаться от преувеличений, с которыми нынче прославляют отречение от своего Я и духовное обезличение, видя в этом как бы цель саму по себе, как бы освобождение и просветление, – что именно и происходит обыкновенно среди пессимистической школы, имеющей со своей стороны веские причины для преклонения перед «бескорыстным познаванием». Объективный человек, который уже не проклинает и не бранит, подобно пессимисту, идеальный ученый, в котором научный инстинкт распускается и достигает полного расцвета после тысячекратных неудач и полунеудач, без сомнения, представляет собою одно из драгоценнейших орудий, какие только есть, – но его место в руках более могущественного. Он только орудие, скажем: он зеркало, – он вовсе не «самоцель». Объективный человек в самом деле представляет собою зеркало: привыкший подчиняться всему, что требует познавания, не знающий иной радости, кроме той, какую дает познавание, «отражение», – он ждет, пока не придет нечто, и тогда нежно простирается так, чтобы на его поверхности и оболочке не пропали даже следы скользящих легкими стопами призраков. Все, что еще остается в нем от «личности», кажется ему случайным, часто произвольным, еще чаще беспокойным: до такой степени сделался он в своих собственных глазах преемником и отражателем чуждых ему образов и событий. Воспоминания о «себе» даются ему с напряжением, они часто неверны; он легко смешивает себя с другими, он ошибается в том, что касается его собственных потребностей, и единственно в этом случае бывает непроницательным и нерадивым. Быть может, его удручает нездоровье или мелочность и домашняя атмосфера, созданная женой и друзьями, или недостаток товарищей и общества, – и вот он принуждает себя поразмыслить о том, что€ тяготит его, – но тщетно! Его мысль уже уносится прочь, к более общему случаю, и завтра он будет столь же мало знать, что€ может помочь ему, как мало знал это вчера. Он потерял способность серьезно относиться к себе, а также досуг, чтобы заниматься собой: он весел не от отсутствия нужды, а от отсутствия пальцев, которыми он мог бы ощупать свою нужду. Привычка идти навстречу каждой вещи и каждому событию в жизни; лучезарное, наивное гостеприимство, с которым он встречает всё, с чем сталкивается; свойственное ему неразборчивое благожелательство, опасная беззаботность относительно Да и Нет: ах, есть достаточно случаев, когда ему приходится раскаиваться в этих своих добродетелях! – и, как человек вообще, он слишком легко становится caput mortuum[46] этих добродетелей. Если от него требуется любовь и ненависть, как понимают их Бог, женщина и животное, – он сделает что может и даст что может. Но нечего удивляться, если это будет немного, – если именно в этом случае он выкажет себя поддельным, хрупким, сомнительным и дряблым. Его любовь деланая, его ненависть искусственна и скорее похожа на un tour de force[47], на мелкое тщеславие и аффектацию. Он является неподдельным лишь там, где может быть объективным: лишь в своем безмятежном тотализме он еще представляет собою «натуру», еще «натурален». Его отражающая, как зеркало, и вечно полирующаяся душа уже не может ни утверждать, ни отрицать; он не повелевает; он также и не разрушает. «Je ne méprise presque rien»[48], – говорит он вместе с Лейбницем, и не следует пропускать мимо ушей этого presque и придавать ему ничтожное значение! Он также не может служить образцом; он не идет ни впереди других, ни за другими; он вообще становится слишком далеко от всего, чтобы иметь причину брать сторону добра или зла. Если его так долго смешивали с философом, с этим цезаристским насадителем и насильником культуры, то ему оказывали слишком много чести и проглядели в нем самое существенное – он орудие, некое подобие раба, хотя, без сомнения, наивысший вид раба, сам же по себе – ничто – presque rien! Объективный человек есть орудие; это дорогой, легко портящийся и тускнеющий измерительный прибор, художественной работы зеркало, которое надо беречь и ценить; но он не есть цель, выход и восход, он не дополняет других людей, он не человек, в котором получает оправдание все остальное бытие, он не заключение, еще того менее начало, зачатие и первопричина; он не представляет собою чего-либо крепкого, мощного, самостоятельного, что хочет господствовать: скорее это нежная, выдутая, тонкая, гибкая, литейная форма, которая должна ждать какого-либо содержания и объема, чтобы «принять вид» сообразно с ними, – обыкновенно это человек без содержания и объема, «безличный» человек. Следовательно, не представляющий интереса и для женщин, in parenthesi[49].
208Если нынче какой-нибудь философ дает понять, что он не скептик, – я надеюсь, это понятно из только что приведенного изображения объективного ума? – то это никому не нравится; на него начинают смотреть с некоторым страхом, людям хотелось бы о стольком спрашивать, спрашивать… и среди трусливых подслушивателей, каких теперь множество, он слывет с этих пор за опасного. Им чудится, при его отказе от скептицизма, точно издали доносится какой-то зловещий, угрожающий шум, словно где-то испытывают новое взрывчатое вещество, некий духовный динамит, быть может, новооткрытый русский нигилин, пессимизм bonae voluntatis[50], который не только говорит Нет, хочет Нет, но – страшно подумать! – делает Нет. Против этого рода «доброй воли» – воли к истинному, действенному отрицанию жизни – как признано, нынче нет лучшего усыпительного и успокоительного средства, чем скепсис, мягкий, приятный, убаюкивающий макскепсис; и самого Гамлета современные врачи предпишут нынче как средство против «ума» и его подземного буйства. «Разве не полны уже все уши зловещим шумом? – говорит скептик в качестве любителя покоя и почти что полицейского охранника. – Это подземное Нет ужасно! Замолчите же наконец вы, пессимистические кроты!» Скептик, это нежное создание, пугается слишком легко; его совесть так вышколена, что вздрагивает от всякого Нет и даже от всякого решительного, твердого Да, причем она как бы ощущает впечатление укуса. Да! и Нет! – это противоречит его нравственности; он любит обратное, – доставлять удовольствие своей добродетели благородным воздержанием, говоря, например, вместе с Монтенем: «Что я знаю?». Или вместе с Сократом: «Я знаю, что ничего не знаю». Или: «Здесь я не доверяю себе, здесь нет передо мной открытой двери». Или: «Положим, что она была бы открыта, зачем же входить тотчас?» Или: «К чему годны все скороспелые гипотезы? Очень вероятно, что не строить никаких гипотез значит иметь хороший вкус. Разве вы должны непременно сейчас же выпрямлять нечто кривое? Непременно законопачивать какой-нибудь паклей всякую дыру? Разве на это нет времени? Разве у времени нет времени? Ах вы, пострелята, разве вы совсем не можете ждать? И неизвестное имеет свою прелесть, и Сфинкс в то же время Цирцея, и Цирцея была тоже философом». – Так утешает себя скептик; и правда, он нуждается в некотором утешении. Скепсис и есть наидуховнейшее выражение известного многообразного физиологического свойства, которое называется на обыкновенном языке слабостью нервов и болезненностью; оно возникает всякий раз, когда расы и сословия, долгое время разлученные, начинают решительно и внезапно скрещиваться. Новое поколение, как бы унаследовавшее в своей крови различные меры и ценности, олицетворяет собой беспокойство, тревогу, сомнение, попытку; лучшие силы действуют в нем, как тормоза, даже добродетели взаимно не дают друг другу вырасти и окрепнуть, в душе и теле не хватает равновесия, тяжеловесности, перпендикулярной устойчивости. Но что в этих полукровках сильнее всего болеет и вырождается, так это воля: они уже совершенно не знают независимости в решении, радостного чувства мужества в хотении, они сомневаются в «свободе воли» даже в своих грезах. Наша современная Европа, представляющая собою арену бессмысленно внезапных опытов радикального смешения сословий и, следовательно, рас, скептична поэтому на всех высотах и глубинах, то тем непоседливым скепсисом, который нетерпеливо и похотливо перескакивает с ветки на ветку, то мрачным, как туча, обремененная вопросительными знаками, – и часто ей до смерти надоедает собственная воля! Паралич воли: где только не встретишь теперь этого калеку! И часто еще какого разряженного! Как обольстительно разодетого! Для этой болезни есть роскошнейшие одежды, сотканные из лжи и блеска; и что, например, бо€льшая часть выставляемого нынче напоказ под названием «объективности», «научности», «l’art pour l’art»[51], «чистого безвольного познавания» есть лишь разряженный скепсис и паралич воли, – за такой диагноз европейской болезни я поручусь. – Болезнь воли распространена в Европе неравномерно: сильнее и разнообразнее всего она проявляется там, где уже давно привилась культура, и исчезает в той мере, в какой «варвар» под болтающейся на нем одеждой западного образования еще – или вновь – предъявляет свои права. Поэтому в нынешней Франции, как это ясно до очевидности, воля немощна более всего; и Франция, всегда обладавшая мастерским умением превращать даже самые роковые свои умственные течения в нечто привлекательное и соблазнительное, выставляет нынче, как настоящая школа и выставка всех чар скепсиса, свое культурное превосходство над Европой. Способность хотения, и именно хотения всею волею, уже несколько сильнее в Германии, и опять-таки в северной Германии сильнее, нежели в средней; значительно сильнее она в Англии, Испании и на Корсике, там в связи с флегматичностью, здесь с твердостью черепов, – не говоря уже об Италии, которая слишком молода, чтобы знать, чего ей хочется, и которая сперва еще должна доказать, может ли она хотеть; но величайшей и удивительнейшей силы достигает она в том огромном срединном государстве, где как бы начинается отлив Европы в Азию, – в России. Там сила воли откладывается и накопляется с давних пор, там воля – и неизвестно, воля отрицания или утверждения, – грозно ждет того, чтобы, по излюбленному выражению нынешних физиков, освободиться. И не только индийские войны и осложнения в Азии нужны для того, чтобы Европа освободилась от своей величайшей опасности, нет, для этого необходимы внутренние перевороты, раздробление государства на мелкие части и прежде всего введение парламентского тупоумия с присовокуплением сюда обязательства для каждого читать за завтраком свою газету. Я говорю так не потому, что желаю этого: мне было бы больше по сердцу противоположное, – подразумеваю под этим такое усиление грозности России, которое заставило бы Европу решиться стать в равной степени грозной, т. е. посредством новой господствующей над ней касты приобрести единую волю, долгую, страшную собственную волю, которая могла бы назначить себе цели на тысячелетия вперед, – чтобы наконец окончилась затяжная комедия ее маленьких государств, а также ее династическое и демократическое многоволие. Время мелкой политики прошло: уже грядущее столетие несет с собою борьбу за господство над всем земным шаром, – понуждение к великой политике.