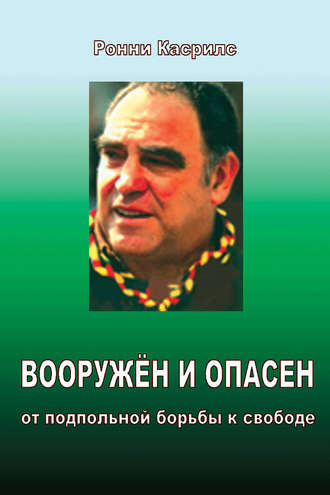
Полная версия
Вооружен и опасен. От подпольной борьбы к свободе
Заплатив таксисту, я вышел около парка. Искусство обнаружения слежки заключается в том, чтобы никогда не оглядываться. Вы должны сами создавать ситуации, которые позволят вам естественным образом осматриваться вокруг. Например, остановить кого-то и спросить: «Не могли бы вы подсказать мне, как пройти на улицу Роки?».
Повернувшись в пол-оборота, чтобы быть лицом к лицу с прохожим, я хорошо видел, как отъехало такси. Парень, которого я остановил, с готовностью ответил: «Это в том направлении, сэр. Это улица, на которой много маленьких магазинчиков. О кей, хей?» Это был знакомый когда-то акцент, нерафинированный носовой говор, звучавший для моих ушей как музыка. Парень мог бы быть одним из моих друзей детства. Он мог бы быть мной.
Я устроился на скамье, чтобы освоиться с людьми в парке. Нужно было обратить внимание на тех, кто появился после меня. Я обнаружил, что мысленно вновь проигрываю футбольные матчи, которые мы играли, когда я был центральным нападающим футбольной команды «Йовилльские парни». Участвовал я и в забегах на беговой дорожке, которая когда-то располагалась по периметру этой самой площадки. В те времена единственными чёрными, которых можно было увидеть в Йовилле или в любом другом белом пригороде, были домашние слуги. Сейчас вокруг было много чёрных, некоторые с детьми. Они грелись на солнце, сидя на скамейках, которые в не столь отдалённом прошлом предназначались только для белых.
Неряшливо одетая женщина с сумками из магазина, нуждаясь в отдыхе, села около меня, тяжело дыша. Затем она пожаловалась как один белый другому: «Как болят ноги. Слава богу. Вы знаете, что по нынешним временам, со всеми этими чёрными вокруг, не всегда можно найти свободное место».
Я сделал ошибку, посмотрев на неё, что побудило её продолжать. Слова быстро полились из неё: «А эти очереди в супермаркете? Столько чёрных! А эта девушка в кассе на выходе? Какая хитрая шикса (чёрная женщина). Что она мне наговорила по поводу сдачи! Где она научилась быть такой сварливой?»
Её появление на сцене не было столь уж нежелательным. Если я находился под наблюдением, то это могло выявить того, кто следил за мной. Но никто не попытался подслушивать, неторопливо прогуливаясь поблизости. Ещё немного послушав о её обидах, я удалился. Но я не мог избежать искушения высказаться в духе домотканой философии моего отца: «Это конечно всё так, мадам, но что, в конечном счёте, мы можем сделать? Мы вместе на этой планете, поэтому живи сам и дай жить другим».
За углом была ортодоксальная религиозная школа, где я учился. Когда-то она была бесспорным центром еврейской жизни. Сейчас она выглядела заброшенной. Я двинулся из делового центра на более тихие окраинные улицы, где любую машину или пешехода, следующего за мной, было бы легче заметить. Я обратил внимание на то, что пышным цветом расцвело множество молельных домов, обслуживающих ультраортодоксальные секты.
Многие из них были переделаны из обыкновенных домов. Я вошёл в один из них. Молодой человек в тёмном пальто и в шляпе, с бородой и бакенбардами (называемыми на идиш «пайяс»), сидел за столом. Я сделал вид, что разыскиваю предыдущего владельца этого дома. После приятного разговора, в ходе которого он спросил, не был ли я baal te shuvah – раскаявшимся евреем, желающим вернуться к пастве – и попробовал обратить меня в свою веру, сказав о «необходимости в эти тяжёлые времени быть уверенным в своей принадлежности», я сказал ему «шалом» и ушел.
На улице было тихо. Моё посещение дома должно было бы привлечь любого, присматривающего за мной. Можно было ожидать, что на противоположном углу улицы шатается какой-нибудь бездельник или другой бездельник стоит на углу. Я в особенности ожидал увидеть молодого человека любой расы, в хорошем физическом состоянии и просто одетого. Мужчину или, возможно, молодую женщину, которые бы избегали встречи глазами и изображали, что они заняты каким-то невинным занятием, типа мелкого ремонта машины или разглядывания витрин. Мимо проехала машина, полная благочестивых евреев. Вряд ли можно было ожидать, что они работают на южноафриканскую службу безопасности.
Я вернулся назад, на улицу Роки. Рассматривание витрин даёт несколько возможностей обнаружить слежку. Зеркала в магазинах и сами стёкла витрин спасали для меня от необходимости оглядываться через плечо.
После того, как этот район перестал быть фешенебельным, он превратился в космополитический с тенденцией к обшарпанности. Солидные магазины для среднего класса по большей части исчезли, уступив место грязноватым магазинам безделушек ручной работы, музыкальным салонам, барам-кафе, клубам и харчевням. Смешанные пары чёрных и белых прогуливались так свободно, будто апартеид никогда не существовал. Йовилль выглядел, может быть, не лучшим образом, но именно он показывал темп распада расовых барьеров.
На углу улиц Роки и Раймонд, в самой непосредственной близости от того места, где я вырос, крутилась разноцветная компания. Похоже, они продавали наркотики. Поблизости уличные мальчишки нюхали клей. Такие места привлекают пристальное внимание полиции. Я решил, что мне пора уходить с улицы Роки.
На улице Раймонд стоял Альбин-Корт, дом, в котором я прожил первые шестнадцать лет своей жизни. Высотой всего в два этажа, но длиной в целый квартал, он выглядел почти как дворец по сравнению с построенными на скорую руку окружающими его домами. Пока я с удовольствием рассматривал его чистые, функциональные линии в архитектурном стиле 30-х годов – которые, конечно же, никому из нынешних обитателей не приходило в голову рассматривать как что-то особенное, на меня нахлынули воспоминания о тех, кто здесь жил.
Я ясно представил себе моего отца и мать, которые жили в квартире на первом этаже. Как и многие другие взрослые в этом доме, они были потомками еврейских эмигрантов, приехавших в Южную Африке на пороге века. Мои дедушки и бабушки приехали из Латвии и Литвы, спасаясь от царских погромов. Наша фамилия, насколько я знаю, происходила от названия еврейского местечка в Литве, называемого Касрилёвка, которая стала широко известной, поскольку упоминается во многих рассказах Шалома Алейхема. Мой дед по отцовской линии, Натан, был одним из первых проспекторов на алмазных разработках в Кимберли. Он вывез свою жену, Сару, в Южную Африку в 1900 году – вскоре после того, как родился мой отец. Мой дед создал алмазный бизнес и позднее стал первым владельцем Альбин-Корта. К тому времени, когда он умер в 1938 году, – в этом же году родился я – он потерял на бирже все деньги.
Мой отец, которого звали Исадор – а проще, Исси, – был сдержанным, аккуратного сложения человеком. Как и большинство мужчин в этом доме, он работал коммивояжёром одной из фабрик. Он одевался консервативно, в костюм и галстук, и всегда носил широкополую шляпу – это был наиболее распространённый стиль того времени. У него был «Плимут» образца 1947 года и иногда, во время школьных каникул, я сопровождал его в «выездах». Я видел, какой тяжёлой была эта работа, когда он разъезжал по пыльным дорогам чёрных пригородов, посещая, главным образом, индийских и китайских владельцев магазинов, которые были основными клиентами фабрики. Именно тогда я увидел перенаселённые лачуги и убогие условия, в которых жили чёрные. У моего отца были хорошие отношения с его клиентами и вежливые приветствия, которыми он обменивался с ними, вызывали у меня чувство гордости за него. Так же, как и большинство его друзей, он непрерывно курил, и его безостановочный кашель за рулём машины тревожил меня. Он умер в 1963 году, вскоре после того, как я покинул страну.
Годы спустя, в изгнании, я встретил секретаря профсоюза коммивояжёров Эли Вайнберга. Он знал моего отца и считал его социалистом. Это удивило меня, потому что отец внешне никогда не интересовался политикой. Эли объяснил, что большинство членов профсоюза были чрезвычайно индивидуалистическими евреями с анархическим темпераментом, которые быстро вспыхивали и столь же быстро остывали и которыми трудно было управлять. Я вспомнил об обитателях Альбин-Корта – любителях игры в покер и азартных игроков на скачках. «Твой отец прочно стоял на земле и понимал, как правильно вести переговоры с хозяевами предприятий».
Мои бабушка и дедушка по материнской линии, Абрахам и Клара Коэн, жили в одном из домов за углом от Альбин-Корт. Когда моя мать была ещё ребенком, у них была овощная лавка.
Моя мать, Рене, была жизнерадостной брюнеткой с ослепительной улыбкой и хорошей фигурой. В отличие от моего отца, она любила компании и интересовалась в основном материальной стороной жизни. Они хорошо уживались, пока она удерживала в определённых рамках вечеринки, на которых играли в карточные игры рамми и канаста. Когда мой отец встретил её, она работала секретаршей. Позднее, после рождения моей сестры Хилари, она пошла работать на полставки, чтобы помочь семье сводить концы с концами. После смерти моей бабушки Клары дедушка Абе переехал к нам. Он тоже стал коммивояжёром и в отсутствие своей жены, которая была сдерживающей силой, стал самым известным из азартных игроков в Йовилле.
Хотя я был энергичным и несколько неуправляемым парнем, увлекающимся спортом и местными развлечениями, отношение белых к чёрным не прошло мимо моего внимания. Это было во время войны и я постоянно расспрашивал мою мать о судьбе евреев в Европе. Она была простой и во многом даже наивной женщиной. Но когда я проводил параллель между положением евреев в Европе под властью нацистов и тем, как в нашей стране обращались с чёрными, обнаруживалось, что она была готова согласиться. Этот честный ответ на вопрос шестилетнего ребёнка оставил свой след.
Осматривая окрестность, я вспомнил день, когда я с друзьями играл на улице в футбол. Один из мальчиков неприятно поразил меня непристойным замечанием о чёрном прохожем, в которого попал мяч.
– Не ругайся на меня и не называй меня «боем»[4],– был ответ того человека. – Через 20 лет очень многое изменится в этой стране.
С того времени прошло уже 40 лет. Это предсказание, хотя его исполнение и задержалось, начало, наконец, становиться реальностью.
Большинство моих сверстников из Йовилля – «йовильские ребята», как мы себя называли, – стали специалистами в той или иной области или пошли в бизнес и давно переехали в процветающие северные пригороды. Довольно многие, как, например, Али Бахер – игрок команды «Спринбок» по крикету[5], стали известными спортсменами.
Многие, не уверенные в будущем страны, присоединились к «утечке мозгов» и уехали за границу. Я подумал, а многие ли из тех, кто остался, были бы готовы помочь мне, если бы я постучался в их дверь…
Я так погрузился в прошлое, что только заметив, как один из нынешних обитателей Альбин-Корта рассматривает меня из окна на втором этаже – там, где жил один из наших ребят, Джок Сильвер, – только в этот момент я пробудился от воспоминаний. Я совсем забыл о другой цели своей прогулки.
Часть первая. Начало, 1938-63 гг.
Глава 1. Бойня в Шарпевилле
21 марта 1960 года. Йоханнесбург
Учёба в начальной Йовилльской школе для мальчиков была очень приятной. Мои спортивные таланты помогли мне получить место в КЕС – средней школе им. короля Эдуарда VII. Хотя это по-прежнему была школа «только для белых», это был совершенно иной мир, нежели тот, в котором я вырос. Йовилльская школа для мальчиков была типичной «асфальто-бетонной» школой для детей из семей с низким достатком. КЕС стремилась к уровню стандартов английских государственных школ. Окружённое деревьями главное здание школы в староанглийском стиле имело башню с часами, которая возвышалась над многочисленными игровыми площадками. Мы носили нарядные зелёные пиджаки с короной, вышитой на грудном кармане, серые фланелевые брюки и, в особых случаях, соломенные шляпы-канотье.
В первый же день небольшая группа ребят из Йовилля, которые были приняты в школу, были осмеяны за то, что пришли в длинных брюках.
– Ясно, что вы – кучка евреев, – сказал нам один из старшеклассников. – Почему бы вам не носить шорты до следующего класса?
Я обнаружил, что элемент антисемитизма укоренился в тех учениках из шахтёрских городов Восточного и Западного Ранда, которые жили в интернате при школе. Их жизнь была убогой, поскольку их заставляли прислуживать и учителям, и старостам классов, и некоторые из наиболее тупых искали любого повода для того, чтобы выплеснуть недовольство своим положением.
Хотя я был в числе лучших на спортивных площадках, особенно в легкой атлетике, я постоянно сталкивался и с учителями, и со старостами. Дело не в том, что я бунтовал осознанно, но я не мог скрыть своего презрения к высокомерному поведению тех, кто имел власть.
Моим любимым учителем был «Бути» Фан дер Рит, который обучал нас языку африкаанс и тренировал нас в регби. Он был прямым, простым и доступным человеком, поэтому, когда он хлестал нас тростью, мы не особенно обижались. Однажды во время уроков к двери класса, где преподавал Бути, подошёл один из старшеклассников. Поговорив с ним за дверью, Бути вернулся и сказал нам, что парень, с которым он говорил, делает ужасную ошибку, преждевременно покидая школу.
– Он думает, что сможет заработать на жизнь, играя в гольф, – сказал заметно расстроенный Бути.
Имя этого парня было Гари Плейер – впоследствии он стал всемирно известным игроком в гольф.
Директором школы был Сэйнт Джон Б. Нитч – угловатый тип с высоким лбом и лысой головой. И учителя, и ученики называли его «Боссом». Вечно угрюмый и в чёрном халате, он напоминал мне средневекового монаха. Когда на богослужениях мы произносили нараспев молитвы, бормоча, «Наш отец там, в раю…», я желал, чтобы наш «Босс» тоже был «там, наверху».
Большинство учителей использовали трость для насаждения дисциплины, но Босс был божьим главным палачом. Рецидивисты вроде меня были хорошо знакомы с процедурой. Он приказывал вам перегнуться через стул в его кабинете, пока выбирал трость из шкафа. Вы слышали, как он со свистом хлестал ей в воздухе, испытывая её на гибкость и настраивая себя.
Первый раз, когда я стал жертвой наказания – за то, что свистнул на только что принятого на работу секретаря школы, – я сделал ошибку, повернувшись, чтобы посмотреть, почему он медлит. Как выяснилось, именно в этот момент он наносил удар в полную силу. Он уже не мог остановить свою руку и я получил удар частично по ногам и частично по рукам.
– Ни с места, – прошипел он, пока я от боли тер руки.
Когда он заканчивал наказание, вам коротко приказывали «выйти вон». Вопросом чести было показать, что вы не напуганы, не издавать ни звука и не показывать, что вам больно.
Если вы возвращались в класс с высоко поднятой головой, то ваши одноклассники смотрели на вас в благоговейном страхе. Порка тростью оставляла шрамы и синяки, которые не сходили неделями. Я обнаружил в столь раннем возрасте, что телесные наказания были неверным способом решать какую-либо проблему. Более того, я понял, что стоически выдерживая наказание, вы выигрывали бой. Вместо того, чтобы быть униженным, вы вызывали восхищение. Это создавало порочный круг между школьной администрацией и мной, поскольку я упрямо стремился показать, что не буду приспосабливаться.
Интерес к учёбе во мне пробудил Тедди Гордон, учитель истории в старших классах. Мой класс был сборищем бездельников, интересовавшихся только спортом. Мы с трудом переползали из класса в класс и изучали географию вместо латыни. Тедди, остроглазый, похожий на птицу, в молодости, во время Второй мировой войны, служил в военно-морском флоте. В нашей школе он считался штатным либералом. Он рассказывал нам о Французской революции и рисовал живые картины страданий крестьян и жестокости аристократов. Для меня параллель с апартеидом в Южной Африке была очевидной.
Указывая на окно, он предлагал нам подумать над тем, какой эффект лозунги Революции могла бы произвести на состоятельных обитателей близлежащего пригорода Хьютон и какое – на жителей чёрных пригородов. Возможно, впервые за всё время учёбы в средней школе я внимал каждому слову.
Во время каникул меня пригласили вместе с несколькими друзьями погостить на ферме одного из наших одноклассников. Его отец был состоятельным «картофельным королём» в районе, который позже приобрел печальную известность тем, что фермеры держали рабочих, поставляемых им полицией, в условиях, сходных с рабскими. Дело не в том, что мы заметили что-то необычное. Это было беззаботное время – купание, игра в теннис, катание на лошадях. Но мы спорили о политике до середины ночи. Когда я вынудил моих друзей признать, что к чёрным относятся плохо, они ответили, что правление белых свергнуть невозможно. Я горячо, возможно, слишком романтично доказывал, что как французские крестьяне поднялись с вилами и серпами, точно так же поднимутся и чёрные южноафриканцы.
После того, как я написал экзаменационную работу «Причины Французской революции», я получил самую высокую отметку в школе и столкнулся с непривычной ситуацией, когда те, которых иронически звали «зубрильщиками латыни», обратились ко мне с вопросом, какие книги я бы рекомендовал им прочитать. Среди «зубрильщиков» был Тони Блум, который стал моим другом и позднее, в качестве председателя компании «Премьер Миллинг» стал одним из «голосов разума» в крупном бизнесе страны. Он входил в первую группу бизнесменов, которая встретилась с Оливером Тамбо в Лусаке. Ещё одним был Ричард Голдстоун, который позднее стал судьёй и возглавлял знаменитую Комиссию Голдстоуна, расследовавшую причины политического насилия. Угрюмый, бесстрастный мальчик, он судил мою схватку со старостой школы в его саду.
Я удивил и своих учителей, и себя, получив довольно высокие оценки на выпускных экзаменах. Итак, после многих превратностей я покинул КЕС на высокой ноте, умудрившись даже расстаться по-доброму с «Боссом». Когда я жал ему руку, он выглядел мягче и высказал свое удовлетворение тем, что я получил оценки, дающие возможность поступать в университет. Подозреваю, однако, что он испытывал облегчение оттого, что война между нами, наконец, закончилась. КЕС был для меня полем боя. Я вышел из неё без чувства обиды, не имея ни против кого зуба, довольно уверенным в себе, готовым к противостоянию власть имущим и с пробуждёнными умственными способностями. Но оттого, что всё закончилось, я чувствовал такое облегчение, что сжёг все свои тетради, за исключением конспектов Тедди Гордона. Через несколько лет они были конфискованы полицией безопасности.
Мой отец был занят тем, что зарабатывал на жизнь, моя мать – свадьбой моей сестры и детьми, которых она рожала. Они надеялись, что я остепенюсь и найду работу, потому что они не имели денег, чтобы послать меня в университет. Я сначала работал учеником по контракту в адвокатской конторе, занимаясь по вечерам в юридической школе. Я надеялся, что юриспруденция сориентирует меня на вопросы судьбы чёрных. Однако учёба показалась мне скучной. Что ещё хуже, мои обязанности клерка заключались в таком достопочтенном занятии, как выбивание долгов в судебном порядке.
Большую часть того, чему я научился, я узнал от Джулая Маришане – рассыльного и так называемого «мальчика для приготовления чая» в этой фирме. Он познакомил меня с официальными процедурами в судах нижнего уровня – как регистрировать судебные повестки и предписания. Однажды он был арестован на расстоянии одного квартала от нашего офиса потому, что забыл свой пропуск. Полицейский отказался разрешить ему сходить за удостоверением личности, которое лежало в ящике его стола. К счастью, мы смогли добиться его освобождения, поскольку один из наших клиентов увидел, что Джулая заталкивали в «чёрный ворон». Иначе он мог бы сгинуть на картофельном поле.
С раннего возраста, приехав из деревни в поисках работы, Джулай работал на нашего хозяина садовником. Он был высоким, неуклюжим человеком и глаза у него широко открывались всякий раз, когда он узнавал что-то новое. В свободное время он выучился читать и писать, и это побудило нашего хозяина взять его в юридическую фирму. Всякий раз, когда бывала свободная минутка, я помогал ему в учёбе. Он надеялся сдать экзамен за неполную среднюю школу. Он не ждал многого от жизни и с уважением относился к нашему боссу, которого характеризовал как доброго и щедрого человека. Я обнаружил в Джулае гуманизм, который позднее увидел во многих чёрных, и это поразило меня как качество, проистекающее из постоянной борьбы за существование. Однажды Джулай сказал мне, что я отличаюсь от других белых.
– Чем? – поинтересовался я.
– Они обычно обращаются к нам, чёрным, с ледяными лицами. Холодными и морозящими. Они делают вид, что мы не существуем.
Иногда мы слышали с улицы пение и скандирование и, глядя из окна нашего офиса, видели демонстрацию жителей чёрных поселков, направляющуюся к городскому муниципалитету. Именно тогда я увидел растущую привлекательность чёрного протеста. Джулай бросал всё, что он делал в этот момент, хватал пиджак и бежал присоединиться к ним. Когда он возвращался, он обычно оживлённо рассказывал мне о том, что произошло.
В центре города часто случалось насилие над чёрными на расистской почве. Оно было особенно очевидным, когда проходили рейды по проверке пропусков. Полицейские в штатском устраивали засады на узких улицах и набрасывались на чёрных мужчин, требуя показать пропуска. Если, как это было в случае с Джулаем, человек не мог предъявить пропуск, его грубо впихивали в стоящий поблизости фургон. Если кто-то протестовал, то появлялись дубинки и чёрных разгоняли во все стороны. Я видел босых уличных мальчишек, просящих милостыню холодными зимними вечерами около кино, и видел, как гогочущие полицейские разгоняли их «сджамбоками» – хлыстами, сделанными из бычьей шкуры. Белые, стоящие в очереди, отворачивались. Даже на международных спортивных соревнованиях, на которых чёрных зрителей загоняли в самый тёмный угол стадиона, полиция нападала на них из-за их нескрываемой поддержки команд гостей. Затем подключались белые зрители, бросая пустые пивные бутылки в своих чёрных соседей по стадиону. В одной ситуации, когда я ещё был одним из йовилльских ребят, я бессильно наблюдал за тем, как группа белых хулиганов избивала чёрного мужчину до потери сознания, а в это время другие белые спешили пройти мимо. Но то, что я видел лично, было ничем по сравнению с историями, которые иногда появлялись в наиболее либеральных газетах, разоблачая факты гибели людей в камерах полицейских участков и на фермах. О жестокости полиции в чёрных поселках сообщалось редко и с точки зрения большинства белых это происходило как бы на другой планете.
Скоро у меня произошло собственное столкновение с законом. Вместе с кучей других юношей и подростков я был задержан после концерта Билла Хейли «Рок на часах». Захваченные истерией нового музыкального ритма, мы высыпали из здания городского кинотеатра прямо на шеренгу полиции. Я был избит за то, что был поблизости – во мне легко был узнать фаната рока по синим замшевым ботинкам и по прическе – и освобождён, проведя субботу и воскресение в тюрьме, с подбитым глазом и поврежденным носом. Обвинение против меня было снято, когда я пригрозил подать в суд на арестовавшего меня полицейского за избиение.
Я всё больше разочаровывался в работе, не испытывал никакого удовольствия, когда выписывал повестки за просроченные долги тем, кто не имел денег на товары, приобретаемые в рассрочку – печальная коллекция чёрных и белых семей. Отказ от должности клерка, обучающегося по контракту, означал отчисление из юридического училища. Я уволился из этой фирмы через два года. Меня привлекли более необычные занятия, которые соответствовали моим возрастающим творческим запросам и желанию преодолевать цветной барьер.
Дружба со студентом, изучающим искусство, втянула меня в богемный круг, собиравшийся вокруг общества любителей посидеть в кафе в Хиллбрау – буйном космополитическом районе города. Днём я был клерком у адвоката, а по вечерам и по субботам-воскресеньям слушал горячие споры об искусстве, поэзии, литературе и музыке, потягивая вино в клубах дыма марихуаны, которую курили другие.
Я пробовал «травку», но предпочёл иметь ясную голову. Я начал писать стихи и прозу и скоро начал встречаться с некоторыми творческими личностями из чёрных посёлков.
Чёрные писатели использовали для самовыражения журнал «Драм» («Барабан») и множество артистических талантов вырвалось на сцену, особенно в музыкальной комедии «Кинг-конг». Это были дни разухабистых расовых вечеринок, называемых «джоллами», которые заставляли город гудеть. Если появлялась полиция, то чёрные участники вечеринок хватали прохладительные напитки, потому что подавать им алкогольные напитки запрещалось. Возникали связи, ломавшие цветной барьер, и часто заканчивавшиеся тем, что несчастные парочки арестовывали и обвиняли в нарушении Закона об аморальности, который запрещал половые связи между представителями разных расовых групп.
У меня были приятные, но краткие отношения с певицей, которая изображала из себя домашнюю прислугу, чтобы мы могли тайно встречаться в квартире одного из друзей. Это были моменты нежности, перекрывавшие напряженность от незаконности этих любовных отношений, которые продолжались, пока она не уехала из страны, чтобы продолжить успешную карьеру за рубежом.



