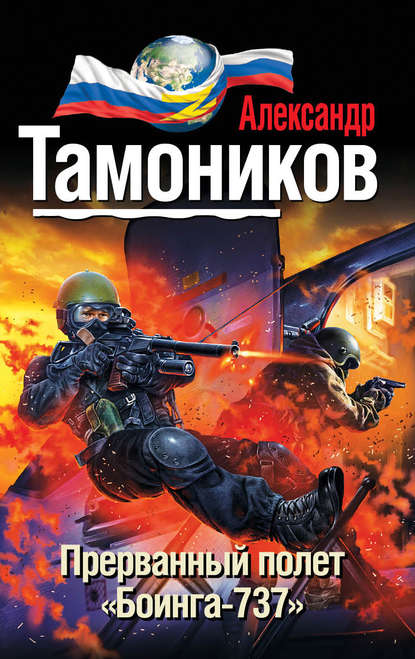Полная версия
Детонатор
– Круто, – оценил Титов. – И что Аглая? Не отдалась?
– Как раз очень даже отдалась, – ухмыляясь, Новиков многозначительно подмигнул. – Усадил я ее, и поехали-поехали за спелыми орехами.
– Круто, – повторил Титов. – Куплю, наверное, Люське своей халат новый. Прозрачный, как у твоей. – На его лбу прорезались морщины. – Так белый или розовый?
– Не помню, – отмахнулся Новиков, давая понять, что ему дела нет до столь малозначительной детали. – Агата с тех пор вообще без ничего при мне ходила.
– Аглая, – напомнил внимательный Титов.
– Аглая в прошлом, Витек. Я теперь с Агатой живу.
– Значит, она тоже?
– Что – тоже?
– Голая ходит?
– А чего ж ей не ходить? – Новиков скорчил самодовольную мину. – Я, видишь ли, скромниц не шибко уважаю. То им свет выключи, то они так не желают, то они сяк не могут.
– Во-во! – оживился Титов. – Я от Люськи вечно одно и то же слышу: не могу, не желаю. Познакомил бы ты меня с ними, Антоха.
– С кем – с ними? – опешил Новиков.
– Ну с этой Агатой своей… и с Аглаей. Мне уже тридцатник скоро, а я толком бабы голой не видел.
– Выбрось эту дурь из головы, Витек.
– Это почему?
– Женщины все одинаковые, и всё у них приблизительно одинаковое. – Голос Новикова звучал покровительственно. – Потерпи чуток, твоя Люська еще разойдется. Насмотришься еще.
– Скорей бы, – мечтательно протянул Титов, прижавшись взопревшим лбом к прохладному стеклу. – Жизнь-то у нас одна. Много успеть надо.
– Успеешь. Смотри на все по-философски.
– Я и смотрю по-философски. Но все-таки хотелось бы, чтобы поскорее.
Произнеся эти слова, Титов умолк, глядя за окно, где проносились бескрайние поля за редкими лесополосами. Изредка мелькали деревушки и крохотные полустанки с причудливыми названиями. Все это была часть огромной Родины всех, кто сопровождал сейчас взрывоопасный груз в серебристом контейнере. Одна на всех. И каждый любил ее по-своему.
В пятом купе, смежном с тем, где ехали Галкин и Белоусов, играли в шахматы офицеры Константин Ефремов и Дмитрий Самсонов. В подсумках у каждого хранились гранаты – по две Ф-1 и по три РГД-5 на каждого. Помимо автоматов Калашникова оба были вооружены пистолетами, подвешенными в кобурах так, как их носят спецназовцы: несколько ниже обычного.
Ефремов и Самсонов представляли собой подгруппу огневого прикрытия. Это были мужчины из той породы, о которых женщины говорят: за ними как за каменной стеной. Оба весили под девяносто, много ели, крепко спали и предпочитали любым словам действия. Правда, вынужденные сидеть в четырех стенах, они были вынуждены разговаривать, поскольку не знали, как еще убить время.
Собственно, беседу затеял Ефремов, плечистый мужчина с кривым ртом, ясными глазами и такой глубокой ямочкой на подбородке, что ее можно было принять за шрам от пулевого ранения. Его собеседник, Самсонов, имел круглое невыразительное лицо с вяло очерченными, бледными губами, почти сливающимися цветом с кожей. Редкую челку он старательно зачесывал на лоб, а потом смачивал и сдвигал расческой набок. У него были такие большие и сильные ладони, что, подвыпив, он на спор раздавливал граненые стаканы и сминал алюминиевые кружки.
Многословные рассуждения Ефремова о великом будущем России Самсонову импонировали, но понемногу начали надоедать – ведь какой резон талдычить одно и то же, когда речь идет о вещах совершенно очевидных, не подлежащих оспариванию.
– Жвачку будешь? – спросил он, чтобы прервать поток утомивших его разглагольствований.
– А? – захлопал глазами увлекшийся Ефремов.
– Жвачку будешь? – повторил Самсонов, протягивая на ладони распечатанную упаковку жевательной резинки.
– Нет.
Ефремов потер лоб, пытаясь вновь уловить потерянную нить рассуждений. Самсонов ему этого сделать не дал.
– Ну, на «нэт» и суда нэт, – произнес он с кавказским акцентом. – Помнишь такой анекдот?
– Помню. Из детства, когда еще СССР стоял.
– Раньше хороших анекдотов ходило мало, но я их все почему-то помню, – поделился впечатлениями Самсонов. – Теперь их в каждой газете печатают, а читать неохота. Не смешно. Почему?
– Не знаю, – равнодушно ответил Ефремов, скривив рот еще сильнее. – Лично мне анекдоты до одного места. – Он показал, до какого именно. – Сейчас не до них. Слыхал, америкосы новые санкции против нас вводят? За то, что мы Арктикой с ними делиться не хотим. – Он сокрушенно покачал головой: – И чего рыпаются, не пойму? Господь все на Земле поровну поделил: вот ваше, вот наше.
– Господь? Ты что, верующий?
– А то как же? Не умерла еще православная вера…
Самсонов почувствовал, что начинает заводиться.
– Православие? – желчно переспросил он. – Вера? Во что? В то, что нас мордуют от рождения до смерти за то, что, видите ли, Адам Еву прижал к древу? Ерунда какая-то. Индусы себе хоть переселение душ придумали.
– Ну и поезжай в Индию переселяться, – обиделся за православие Ефремов. – Чего ж ты в России торчишь?
– Здесь родина моя! – обиделся и Самсонов. – Живу я тут.
– А раз живешь тут, то не плюй в колодец.
– Я не в колодце живу, а на родине.
Вполне резонное заявление еще больше взвинтило Ефремова. Его возмущенное сопение перекрыло вагонный скрежет и перестук колес по рельсам. Сопел он долго, пока, наконец, нашелся с ответом.
– Вот что я тебе скажу, друг ситный, – начал он. – Верь во что хочешь, хоть в черта лысого, а православие не трогай. На нем все держится. – Ефремов повел рукой, имея в виду, конечно, не убогий интерьер купе, а все, что находилось снаружи: плодородные пашни, леса, реки, большие и малые города, а также всех тех, кто обитал в них, гордо называя себя россиянами. – И сейчас, когда НАТО у самых границ стоит, а Запад на богатства наши пялится, негоже о патриотизме забывать.
– Так я, по-твоему, не патриот? – вскипел Самсонов. – Что же я тогда тут делаю, с оружием в руках? Я Родину защищаю. Крым и рым прошел. Эх ты!..
Махнув рукой, он отвернулся. Его лицо покраснело, словно в него плеснули кипятком.
Ефремов понял, что перегнул палку. Его рука осторожно легла на плечо товарища. Тот сбросил ее резким движением, но Ефремов снова вернул руку на место.
– Извини, – сказал он. – Погорячился.
– Колодец какой-то приплел, – буркнул Самсонов, продолжая смотреть в сторону, хотя было видно, что он начинает смягчаться.
– Это все от голодухи, – решил Ефремов. – Перекусить надо.
– Сам перекусывай.
– Нет, брат, давай уж вместе. Хвались харчами. Чего там у тебя?
Оказалось, что Самсонов подошел к заготовке съестных припасов основательно. На стол легли вареные яйца, толстые колбасные бутерброды в целлофане, нарезанный сыр, упаковка ряженки и крупная редиска с обрезанными хвостиками.
Ефремов тоже не ударил лицом в грязь. Он присоединил к образовавшемуся натюрморту парниковые огурцы, мятый белый батон, золотистую ставриду горячего копчения и влажную, нежно-розовую ветчину.
Некоторое время друзья жевали молча, но постепенно снова разговорились, не обращая внимания на то, что реплики, доносящиеся из набитых ртов, звучали не слишком внятно. Говорили о большой политике, о неизбежной войне, о семейных неурядицах и просто о женщинах, без которых, разумеется, ни один, ни другой жизни себе не представлял.
Очистив яйцо, Самсонов целиком засунул его в рот, пожевал, вытер пальцы о замасленный краешек газеты и спросил:
– Как думаешь, без приключений доедем?
– Никогда наверняка не знаешь, – рассудительно сказал Ефремов. – Помнишь, как ученого из Приднестровья везли?
– Еще бы! – Качая головой, Самсонов откусил ломоть ветчины, намазанный горчицей. – Нас тогда чуть не положили.
– Но мы им дали жару, будь здоров.
– Не говори. Двоих наповал, одного колесами по асфальту размазали. Было дело.
– А ведь тоже начиналось все тихо-мирно, – сказал Ефремов, косорото приложившись к упаковке кефира. – А потом…
Он не договорил, не найдя нужных слов, но Самсонов его понял.
– Потом – да, бляха-муха, – согласился он, качая головой.
И боевые товарищи надолго умолкли, вспоминая тот бой – один из многих, выпавших на их долю.
За мутным, захватанным пальцами окном проносилась необъятная Россия, мирно дремлющая под охраной своих сыновей.
А шахматная партия так и осталась незавершенной.
Глава третья
Аки тати в нощи
Воскресенье, 12 мая
К вечеру тени удлинились, подул свежий ветерок, в шорохе листвы появилось что-то таинственное. Евсеев любил эту пору, когда можно было предаться размышлениям о бренном и вечном, отдавая предпочтение второму. Молодая, сочная трава вдоль дорожной обочины, на которой он стоял, еще не успела запылиться и радовала взор своей изумрудной зеленью.
«Хорошо, – подумал Евсеев, – хотя это не продлится долго. Как и наше существование на этой странной планете под названием Земля».
Мимо проносились разноцветные иномарки, но махать им рукой было, все равно что снаряды на лету останавливать, поэтому Евсеев не делал лишних телодвижений, голосуя лишь при появлении стареньких отечественных автомобилей. Избранная тактика себя оправдала. Не прошло и десяти минут, как у обочины притормозил зеленый «Москвич». Торговаться тоже долго не пришлось. Заслышав про три сотни, водитель сверкнул стальными зубами и воскликнул с лихостью потомственного извозчика:
– Э, да ладно, садись. Где наша не пропадала!
– Везде пропадала, – сказал Евсеев, устраиваясь на продавленном переднем сиденье.
Отсмеявшись, водитель разогнал «Москвич» до буквально потрясающей скорости семьдесят километров в час, откинулся на спинку кресла и представился Григорием.
– Семен, – откликнулся Евсеев, прикидывая, старше ли он Григория лет на пять или, наоборот, лет на пять моложе. – Мы, кажется, ровесники? – вежливо поинтересовался он.
– Если тебе сороковник, то да. Больше половины жизни псу под хвост.
Тут Евсеев обратил внимание на фотографию, украшающую треснувшее лобовое стекло. Это был снимок Есенина, но не тот классический портрет с трубкой, столь популярный в народе. Руководствуясь какими-то непонятными мотивами, Григорий остановил выбор на увеличенной фотографии мертвого поэта. Из-за рассыпавшихся кудрей и страдальческого излома бровей Есенин походил на обиженного мальчика, уснувшего в слезах. Приоткрытые губы еще таили звук последнего горестного вздоха.
Евсеев посмотрел на фотографию и поспешил отвести взгляд.
– Не боись, – воскликнул Григорий, по-своему понявший порывистое движение попутчика. – Это же Сергей Есенин.
– А почему мертвый? – спросил Евсеев.
– Какому ж ему быть, после того как его убили? – резонно ответил Григорий, лаская обеими руками обмотанную изоляционной лентой баранку. – Откуда родом?
– Не знаю, не помню.
– Где родился, не помнишь?
– В одном селе, – заулыбался Евсеев, – может, в Калуге, а может, в Рязани…
– Из психушки сбежал? – вторично насторожился Григорий.
– Это я Есенина цитирую.
– Таких стихов не знаю, в фильме их не было. Зато вот: «…хулиган я, хулиган, от стихов и сыт и пьян…» А? Как сказано?
– Не совсем точно.
Евсеев кашлянул, готовясь поправить Григория, но тот его опередил:
– Быть того не может. Они перевирать не станут.
– Кто «они»?
– Безуховы… или как их там? Тьфу, дьявол, фамилия из головы вылетела. – Григорий раздраженно ударил кулаком по баранке. – Папаша и сын с невесткой. Они мировой сериал про Серегу отсняли лет десять назад. Я как посмотрел, так сразу понял: наши люди, великорусские.
– И все-таки почему фотография мертвого Есенина? – повторил вопрос Евсеев.
– Это фото в каждой серии показывали, – пояснил Григорий. – Оно как напоминание.
– О чем?
– О чекистах-инородцах, что Россию-матушку кровью залили. Иуда Троцкий и компания. Вот змеи подколодные! Годами вокруг Есенина увивались, своего часа ждали, чтобы ужалить. Цирлихи-манирлихи всякие. Заманили в «Англетер», тю-тю-тю, ля-ля-ля, а сами удавку на шею и канделябром! Сергей как чувствовал, когда писал, что, мол, в этой жизни умирать не просто, но и жить, поверь мне, нелегко. – Григорий понизил голос: – Черный человек знаешь кем был взаправду? Сталиным. А Сталин кто был по паспорту? Грузин. Джу-га-шви-ли. Нас всех, русских, гнобят кому не лень.
– А мы? – спросил Евсеев.
– А мы – вот, – Григорий кивнул на фотографию. – Не тоскуем, не грустим, не плачем. Или как там у Высоцкого? У обрыва, возле пропасти, по самому по краю!
Евсеев привалился к дверце.
– Я подремлю, ладно?
– Вот так и страну продремали, – с укором произнес Григорий. – Спасибо, остались еще люди вроде Безуховых. Актера, который Есенина играл, знаешь как зовут? Между прочим, тоже Сергеем. Эх, пейте водку в юности, бейте в глаз без промаха!
Евсеев притворился, что клюет носом, а потом и впрямь заснул и очнулся лишь в сумерках, когда Григорий требовательно потряс его за плечо.
– Тебя где высадить? – спросил он мрачно, явно недовольный тем, что попутчик не пожелал поддерживать беседу о поэзии.
– Мне станция нужна, – хрипло сказал Евсеев, незаметно косясь на «молнию» своей сумки, пристроенной на коленях.
– Две сотни добавишь? А то мне крюк делать.
– Делай. Я заплачу.
– Деньги вперед, – потребовал Григорий. – И никаких гвоздей.
Последняя фраза могла означать, что он знаком не только с творчеством Есенина, но и Маяковского, однако проверять свою догадку Евсеев не стал. Он молча заплатил, молча закрыл глаза, а когда открыл их вновь, то находился уже в месте назначения.
Железнодорожная станция «Мирная» вполне соответствовала своему названию. Здесь почти всегда царила тишь, за исключением тех дней, когда на станции куролесили местные дебоширы и выпивохи. К счастью, это случалось нечасто, так как доходы не позволяли им пьянствовать регулярно.
В ту ночь, когда здесь появился Евсеев, на перроне было пусто, если не считать кудлатой дворняги, облепленной репьями, какой-то собирательницы бутылок неопределенного возраста да относительно чистого бомжа, прикорнувшего на скамейке.
«Это хорошо, – подумал Евсеев. – В компании, оно безопаснее будет».
Обладатель «Москвича», высадивший его в десяти минутах ходьбы от железнодорожной станции, теперь не сразу бы признал в нем своего попутчика. Завернув по пути в полуразрушенное здание школы, Евсеев переоделся в вещи, извлеченные из сумки, а саму сумку надежно припрятал за штабелями парт. Теперь он выглядел как заправский бродяга из российской глубинки: стоптанные кроссовки, растянутые спортивные штаны и рябой пиджак без пуговиц, наброшенный поверх футболки.
В таком наряде Евсеев не привлекал к себе любопытных взглядов, к чему, собственно, и стремился. Из правого кармана его пиджака торчало горлышко водочной бутылки, а из левого – надкушенная булка. В зубах он сжимал чадящую сигарету без фильтра.
Прогулявшись по перрону, Евсеев заглянул в здание вокзальчика, где лишний раз удостоверился, что поезд Москва – Челябинск остановится здесь через час двадцать. Стоянка должна была продлиться ровно две минуты, но Евсеева это не смущало. Времени было более чем достаточно. Правда, потом предстояло ночное путешествие домой, но за работу Евсееву заплатили достаточно, чтобы мириться с мелкими неудобствами.
Еще разок пройдясь вдоль железнодорожных путей и не обнаружив ничего и никого подозрительного, Евсеев опустился на скамейку, предварительно сбросив оттуда ноги спящего бомжа.
– Ты чего? – хрипло запротестовал тот.
– Выпить хочешь?
Подобный вопрос, заданный гражданину мужского пола, редко влечет за собой ответ отрицательный, и данный случай не стал исключением.
– Хочу, – решительно кивнул бомж, еще не совсем протрезвевший после предыдущей дозы. – Только башлей нет.
– Угощаю, – великодушно сказал Евсеев. – Тащи посуду.
Сорвавшись с места, бомж буквально испарился, а когда материализовался вновь, в руке его были два пластиковых стаканчика.
– Праздник какой? – поинтересовался он, жадно следя за распределением первой порции.
– День рождения, – соврал Евсеев.
– Твой?
– Да хотя бы Бонтемпелли.
– Это кто ж такой? – подивился бомж, любуясь бесцветной жидкостью на дне своей емкости.
– Итальянский писатель, драматург, музыкальный критик и композитор, – пояснил Евсеев, приобретший энциклопедические познания в результате многолетних разгадываний кроссвордов.
– О как!
– Да уж так.
– Тогда за него?
– Поехали, – по-гагарински сказал Евсеев и пригубил едко пахнущую водку.
– Странный ты, – сказал бомж, когда они познакомились и выпили еще по одной.
– Что ж во мне странного?
Евсеев улыбался, а сам на всякий случай примеривался, куда бы лучше ударить, если что пойдет не так.
– Если по одежке судить, то вроде бичуешь, – продолжал рассуждать бомж, медленно жуя кусок булки, выделенной ему для закуски.
– А если не по одежке?
– Тогда на военного похож.
Евсеев рассмеялся, хотя глаза его оставались холодными и изучающими.
– Что ж во мне от военного?
– Выправка. – Бомж принялся загибать свои сизые пальцы с обкусанными ногтями. – Взгляд. Голос. Да много чего.
Евсееву вдруг вспомнился отец, провожавший его в армию. Будучи районным военным комиссаром, он мог бы запросто отмазать сына, но не захотел. Не отдал его и в военное училище.
«Ты должен начать с самого низа, – твердил он. – Рядовым».
«Я не хочу в армию», – отвечал юный Евсеев.
«И ты должен быть готов, – рассуждал отец, пропуская возражения мимо ушей. – Я хочу рассказать о том, что тебя ждет, чтобы ты потом не удивлялся. Там будут над тобой издеваться. Практически все, кроме твоих одногодков и тех, кто придет по призыву позже. Издевательства будут продолжаться, пока ты не потеряешь остатки самоуважения, прежние привычки и нынешние правила приличия. Тебя заставят спать, жрать и… – он поколебался, подыскивая подходящее слово, – и испражняться вместе со множеством других солдат. Вы все будете делать скопом. Вас оденут так, что вы перестанете отличаться друг от друга. Ты сольешься с общей массой, потеряешь всяческую индивидуальность».
«Нет, – возражал Евсеев. – Не потеряю».
Это вызывало у отца лишь усмешку:
«Обязательно потеряешь, сынок. Ты станешь не только говорить и поступать, как другие, но и думать, как они. Тебя не сержант заставит, не комроты. Инстинкт самосохранения».
«А если я не захочу?»
Отец кивнул:
«Никто не хочет. Некоторые даже находят в себе силы и мужество противопоставлять себя стаду».
«И что тогда?»
«Тогда весь огромный армейский механизм принимается последовательно и беспощадно уничтожать непокорного, осмелившегося заявить, что он – личность. На таких давят физически и морально. А тот, кто и тогда не покорится, будет вышвырнут ко всем чертям, не сломленный, но искалеченный».
Страшная правда, кроющаяся в отцовских словах, всегда пугала Евсеева.
«Но зачем, отец?»
«Инстинкт самосохранения, сын. Но не индивидуальный, а групповой. Столь мощная организация, как армия, не может позволить себе болеть. Ведь неподчинение сродни болезнетворному микробу. Прозевал, и вот уже целая эпидемия бушует».
«Так что же делать?» – спросил однажды Евсеев, подавленный и растерянный.
«Подчиниться, – сказал отец. – На время усмирив свое эго. И тогда – конечно, не сразу, а постепенно, – ты обнаружишь, что этот механизм подчинен неумолимой логике и по-своему прекрасен. – Он поманил сына, чтобы тот наклонился к нему. – Слушай меня внимательно, потому что я знаю, о чем говорю. Есть мужчины, которые, попав на солдатскую службу, поднимают лапки и теряют лицо. Правда, такие и до армии были ни рыба ни мясо».
«Я не такой».
«Пожалуй. Значит, ты способен погрузиться в общее болото, а потом возродиться вновь. Опустившись на дно, ты вознесешься выше, чем можешь себе представить. Чины, звания и власть, власть, все больше власти. Поверь мне, военная служба – путь настоящего мужчины».
«А если… – Евсеев нарочито зевнул, делая вид, что поддерживает разговор лишь из вежливости. – А если кто-то согласен воевать, но терпеть не может муштры и стадо? Как ему себя проявить?»
«Таким в вооруженных силах не место, – отмахнулся отец. – Такие обычно становятся псами войны».
«Псами войны?»
«Звучит красиво, – промелькнуло в мозгу Евсеева-младшего. – Мне нравится». Он снова зевнул.
«Еще их называют солдатами удачи», – сказал отец.
«Наемники, так?»
«Совершенно верно. Они убивают не за идею, не за родину, не во имя воинского долга. За деньги. Продажный народ».
«И много им платят?» – поинтересовался Евсеев с деланным равнодушием.
«Много, – ответил отец. – Но век их недолог. Редко кто доживает до сорока».
«А я доживу, – решил Евсеев. – Нужно просто вовремя уйти. Заработать денег и открыть свой бизнес».
С того дня он посвятил свою жизнь этой цели и месяц спустя уже лежал в засаде в Приднестровском лимане и с автоматом в руках. Он стал солдатом, хотя не прослужил в армии ни дня. Его жизнь была полна приключений, но не тех, о которых хотелось вспоминать или рассказывать в кругу друзей, тем более что и друзей у Евсеева не было. Он превратился в волка-одиночку, рыскающего по территории бывшего СССР с целью урвать свой кусок, и этот кусок всегда был кровавым, и заработанные деньги тоже были кровавые, и сны… и впечатления… и мальчики кровавые в глазах.
Скопить капиталец не удалось, потому что все накопленное спускалось в кабаках и борделях за один месяц отдыха, после которого приходилось вновь отправляться на войну. В сорок лет Евсеев понял, что если не остановится сам, то остановят его – пули, гранатные осколки, остро заточенные ножи, которыми так просто резать людей и скотину. Он безуспешно перепробовал несколько мирных профессий, не преуспел ни в одной и решил уже доставать свой арсенал из тайника, когда его нашли люди, говорящие по-русски с акцентом и расплачивающиеся иностранной валютой.
Евсееву предложили работу, и он на нее согласился, сделавшись полушпионом, полудиверсантом, в зависимости от обстоятельств. На сей раз обстоятельства сложились так, что он должен был произвести разведку и сообщить о своих наблюдениях кому следует. Дельце не казалось сложным до того, как небритый, вонючий бомж опознал в Евсееве военного. Не в его правилах было оставлять следы. Ведь он, несмотря на новых хозяев и смену деятельности, по-прежнему оставался волком-одиночкой, всю жизнь уходящим от погони.
Не повезло Евсееву в этой жизни. Распивающему с ним водку бомжу не повезло еще больше.
Бутылка опустела за пять минут до прихода поезда Москва – Челябинск. Почти всю водку вылакал вокзальный ханыга, а Евсеев делал маленькие глотки – для виду и для запаху. Он полагал, что это у него получается незаметно, но глазастый собутыльник и здесь проявил наблюдательность.
– Чего не пьешь? – спросил он.
Язык у него слегка заплетался, что, увы, никак не сказывалось на умственной деятельности.
– Завязать собрался, – ответил Евсеев.
– Да ты и не начинал никогда.
– Ты откуда знаешь?
– Вижу.
– И что ты видишь?
– Белки глаз у тебя чистые, это раз, – заговорил бомж, опять принявшись загибать свои грязные пальцы. – На лице под кожей прожилок нет, ни на щеках, ни на носу, два. Ну и последнее…
– Что? – поторопил Евсеев, вглядываясь в ночную даль, где возникли огоньки, свидетельствующие о приближении локомотива.
– Не уважаешь ты водочку.
– Да ну?
– Не уважа-аешь, – протянул бомж, пьяно хихикая. – Морщишься, кривишься, передергиваешься. Мы, люди пьющие, глотаем ее, как воду, как лекарство. Ты не из наших.
Евсеев посмотрел ему в глаза:
– Может, шпион?
– Может, и шпион, откуда я знаю. – Внезапно протрезвевший бомж заерзал на скамейке и попытался встать. – Только мне до тебя и дела нет, – лопотал он, озираясь по сторонам. – Угостил, и ладно. А теперь мне пора.
Рука Евсеева не позволила ему оторваться от скамейки. Бомж еще раз дернулся и затих, как голубь в когтях кошки, который уже почти смирился со своей участью и хочет лишь, чтобы все закончилось быстро и без лишних мучений.
– Сиди спокойно, – велел Евсеев. – Я тебе сейчас правду скажу.
– Не нужна мне правда твоя, – тоскливо произнес бомж. – Отпусти, а?
– Не торопись. Успеешь.
В промежутке между этими двумя предложениями угадывалось еще одно, третье. Оно бы прозвучало как «на тот свет».
Бомж сник. Его физиономия побледнела под слоем многодневной грязи.
– Я шпион, – сказал Евсеев негромко. – Или разведчик. Смотря как, под каким углом на это посмотреть.
– Я понимаю, – кивнул бомж.
Его ноги в облезших туфлях подобрались, упираясь в растрескавшийся асфальт перрона. Не стоило большого труда понять, что он приготовился предпринять отчаянную попытку к бегству.