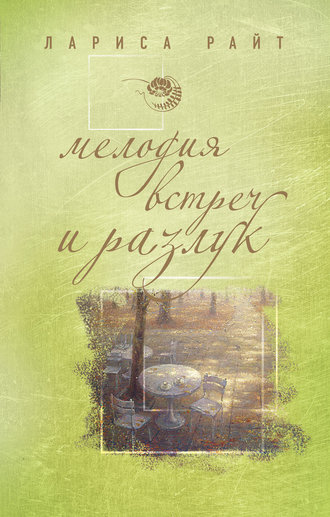
Полная версия
Мелодия встреч и разлук
Алина тяжело переступает по песку, волоча тяжелые упаковки с водой, проклиная и себя, и Камерун, и Корпус мира, и американцев, и собственно Америку. «Пора заканчивать. Признать поражение в этом раунде и начинать следующий. Время идет. Сейчас мне двадцать два, а жизнь уже катится со страшной скоростью. И дальше она будет только ускорять свой бег. Я должна добиться желаемого хотя бы в этом тысячелетии. Что ж, неплохие рамки я установила. Осталось всего ничего. Каких-то три года. Девяносто седьмой скоро закончится. А когда, кстати, наступит новое тысячелетие? Может, в две тысячи первом? Тогда у меня в запасе все четыре».
– Лин! – Нэнси призывно стучит по порванной обивке сиденья рядом с собой, улыбается широко ровными рядами голливудских зубов («Подумаешь, два года в брэкетах!»), будто и не изображала несколько минут назад воплощенное оскорбленное достоинство.
Алина заставляет себя улыбнуться в ответ, садится рядом и отворачивается. Может, это заставит Нэнси понять, что она не расположена к болтовне. Американка намеков не понимает, заводится вместе с двигателем и тарахтит с ним в такт все время поездки, заикаясь на ухабах и напевно растягивая слова на небольших участках ровной дороги. Реакция собеседника, точнее слушателя, ей не требуется. Алина и не слушает. Лишь одна фраза выдергивает ее из вереницы собственных путаных мыслей:
– Я считаю, что все мы здесь оказались не просто так. Ты вот зачем приехала? Я, например…
А и правда, зачем? Что это дало ей? К чему привело? К пониманию того, что где-то жизнью называют то, что она никогда не осмелилась бы так назвать. Но совсем необязательно было ехать так далеко, чтобы сделать подобное открытие. Конечно, в нескольких десятках километров от Москвы люди не скачут голышом, не охотятся на леопардов и не просыпаются по ночам от топота напуганных тропическими ливнями носорогов. Их не преследует призрак желтой лихорадки. Но мучающие их монстры, возможно, гораздо страшнее диких зверей и смертельных болезней. Им изо дня в день говорят о приватизации, индексации, конгрессах и форумах, о Нобелевских премиях и нанотехнологиях, о юбилеях великих писателей и о победах российских фильмов на международных кинофестивалях, о спортивных достижениях, о мировых рекордах, о грандиозных предвыборных кампаниях, которые, бесспорно, приведут всех к светлому будущему. Людям рассказывают о доступности образования и медицины, о борьбе с коррупцией, свободе слова и прочих прелестях, неизменно вызывающих чувство непомерной гордости за свое отечество. Обо всем этом днем и вечером со страниц газет, из теленовостей и по радио может узнать каждый, а по ночам россияне предоставлены сами себе и вольны размышлять о том, суждено ли им завтра проснуться. И не потому, что страну захлестнула волна терроризма, а лишь из-за того, что в доме их, построенном при царе Горохе, ремонт проводился целые эпохи тому назад или не проводился вовсе; от того, что комиссия признала их квартиру аварийной и не пригодной для проживания еще в прошлом веке, а трещины по потолку расползаются со страшной скоростью и, наконец, от того, что все еще неизвестно, дадут ли завтра воду, свет или газ. Впрочем, справедливости ради можно признать, что сомнения в действительном приближении перемен могут посещать людей не только по ночам. Утром, приводя детей в школы, едва ли не в каждой второй они натыкаются на приветственный лик вождя мирового пролетариата. В учреждениях, призванных научить детей не только складывать цифры и декламировать наизусть «Письмо Татьяны», но и с уважением относиться друг к другу, до сих пор отсутствуют двери между кабинами в женских туалетах, хотя практически все классы оснащены телевизорами, компьютерами, магнитофонами и проекторами.
Нет, если бы Алина просто хотела открыть для себя мир, она бы не стала забираться так далеко. Просто ее жизнь – это погоня. И чтобы сделать следующий шаг, необходим продуманный план, отретушированный без сучка, без задоринки. Алина обязана опередить наконец ту, которая снова оказалась недосягаемой.
5
– Недостача. Видишь? Опять недоработка, – бригадир недовольно оглядывает Зину, вздыхает: – Ну, что с тобой делать, а? План – он для всех одинаковый, понимаешь? Не я же его выдумал, в конце концов. А тебе до нормы, как мне до Луны. Ну, что с вас, малолеток, взять?
Он машет рукой, выражая жестом все непередаваемое словами пренебрежение, что вызывает у него Зинка и ей подобные. Хотя нет. Подобных Зине здесь все-таки нет. Она одна такая: и образованная, и немного, пускай чуть-чуть, но все же одаренная музыкантша, и совершенно бездарная ткачиха, и маленькая, неопытная девятнадцатилетняя девушка с розовыми мечтами и романтическим бредом в голове, и сложившаяся женщина со своими страстями, феерическими желаниями, продуманными планами и несуразными глупостями.
Женщиной Зина стала год назад. Это была, по ее собственному мнению, первая несуразная глупость в ее жизни, по мнению Галины, конечно же, сто первая. Звали эту глупость Бобом, и обладала она всеми необходимыми атрибутами для того, чтобы быть принимаемым в Тамарином «ателье»: брюки клеш, кошачья пластика, клетчатый пиджак и пластинки Армстронга, доставаемые с загадочным, неприступным видом из тщательно упакованных, непрозрачных свертков. И демонстрировал Боб все эти сокровища не красавице Тамаре с ее чудесными пергидрольными локонами, пухлыми, алыми губами, вздернутым носиком и манящим, грассирующим «р», а исключительно Зине – Зине, которая не доросла и до полутора метров и весила немногим более сорока килограмм, Зине, чьи вторичные половые признаки, казалось, вовсе забыли проявить себя, а лицо напоминало испекшийся блин: веснушчатое с размытыми чертами. Если рассмотреть каждую деталь отдельно, то описанию можно придать определенную четкость: остренький нос, довольно длинный, слегка выступающий вперед подбородок, низкий, почти всегда нахмуренный лоб, тонкие губы. Но вместе все как-то расплывалось, не запоминалось. Хотя многих, да и саму Зинку, восхищали ее глаза: глубокие, синие с вечной романтической поволокой, словно вызванной готовыми вот-вот пролиться слезами. Если и можно пленить кого-то одним только взглядом, то Зинаиде это было неизвестно: опытов таких она не проводила, так как успех подобного эксперимента подвергала большим и небеспочвенным сомнениям. В общем, редкое внимание со стороны представителей противоположного пола было для нее, конечно, желанным и, бесспорно, приятным, но продолжало казаться весьма удивительным. Заинтересованность Боба и вовсе поразила Зинку. Впрочем, ничего особенно странного в таком проявлении чувств на самом деле не было. Если кто-то из обитательниц квартиры и мог произвести впечатление на приходящих к портнихе, то кроме нее самой на роль искусительницы могла подойти только Зина: все остальные были дамы серьезные, амурных планов не строящие, флиртовать не умеющие или давно разучившиеся, да и интереса к подобной публике, что представляли собой Тамарины клиенты, не проявлявшие. У самой же Тамары к тому времени появилось личное сокровище, собственноручно упакованный сверток, туго затянутый в цветастые пеленки, что приносила с работы соседка – врач.
Сверток именовался Маней и не имел никакого отношения к застрявшему в плаваниях моряку, который из разряда мужа после довольно продолжительной качки и нескольких сильных штормов был все же успешно произведен в ранг бывшего под напором увеличивающегося Тамариного живота и ее всепоглощающей, неземной любви. Новая любовь, однако, присутствием своим семью не баловала. Все, что известно было об этом человеке в их коммунальной квартире, исходило от самой Тамары: познакомились, полюбили, сошлись, жизнь на время разлучила. Где, как, когда, почему – подруга не говорила, а Зинка не спрашивала.
– Работает, – объяснила отсутствие мужа Тамара и погрузилась в верное ожидание, что заставило Зину убедиться в том, что профессию моряка соседка за работу не считала.
Важное занятие Машиного отца денег особых, видимо, все же не приносило. Тамара теперь строчила в два раза больше и не отказывалась ни от каких, даже «безвкусных и совершенно неинтересных» заказов. Времени у Тамары не хватало ни на то, чтобы еду приготовить, ни на то, чтобы собственно поесть. Зина заходила к ней в комнату, ставила рядом со строчащей машинкой тарелку горячего супа, забирала с неизменного матраса орущий сверток, уносила к себе. А там баюкала, тискала, качала, обцеловывала, сюсюкала, показывала старых деревянных лошадок, выпиленных для нее когда-то отцом, умершим несколько месяцев назад в Казахстане от внезапной остановки сердца.
– А что вы хотели, на молодой-то скакать? – почти в полный голос спросила на кухне дворничиха Фрося у докторши.
– Бросьте, Фрося! Как вам не стыдно?!
А Зинка влетела тогда в кухню, чуть не сшибла Фросю, сверкнула на нее злыми глазами, порывисто обняла Антонину, и обратно к Тамаре, к ее любви, к ее раздутому животу, к материнской груди, к жизни, к джазу, подальше от сплетен, злорадства и неприкрытого довольства тем, что «и у этих антилегентов не все слава богу».
Интеллигентов в понимании Фроси в квартире немного – Галина с дочерью да Антонина. Но доктор, конечно, ближе к народу. Врач – профессия понятная, необходимая, уважаемая. Концертмейстера Дома культуры уважать тоже можно, а понять гораздо сложнее.
– Что нового на работе? – решила Фрося как-то завести с Галиной светскую беседу.
– Сегодня давали Шуберта.
– Жаль, вам не удалось взять.
– Почему?
– Они же дорогие, шубы-то.
Галина захохотала, кивнула согласно:
– Дорогие, Фросенька, скажу я вам, ох, дорогие, – и тут же забыла про соседку, упорхнула в комнату, заговорила с дочерью: – Зря ты не пришла, Зина. Если бы ты только слышала. «Лесной царь» – это просто божественная баллада, изумительная. Я понимаю, почему именно она принесла ему всемирную славу.
– Мама, я учусь в музыкальной школе.
– Да, но Шуберт…
– Я знаю, кто такой Шуберт.
– Знать мало, Зиночка, ой, как мало. Надо чувствовать, понимаешь? Вот когда звучат первые аккорды, как только в тебя проникает ре минор…
Дальше Фрося уже не разобрала. Ничего она в этих музыкантах не понимала, знала только, что у Галины «мужик загулял», сочувствовала ей, не без этого, но в душе, да и у подъезда на лавочке сознавалась и самой себе, и товаркам, что спать с горячей бабой все же приятнее, чем с каким-то там Шубертом, который, оказывается, как ей потом объяснили, был композитором, и даже не нашим, нерусским. Зинка была понятнее матери: и ругнуться могла по-настоящему, и с Тамаркой-портнихой дружила, а уж когда девка скрипку разбила, так Фрося за нее даже обрадовалась:
– Авось нормальным человеком станет.
– Или наоборот, – неожиданно просипело в ответ квартирное несчастье – Колька-алкаш, – служившее до недавнего времени грузчиком в овощном магазине, но уволенное оттуда по причине постоянных и непомерных возлияний. Это «отродье» Фрося к интеллигенции, естественно, не причисляла, хотя помнила, как лет пятнадцать назад этот «горе-соседушка» в редкие минуты трезвости вдруг начинал читать каких-то поэтов, утверждая, что они из какого-то там Серебряного века, или монологи литературных героев, которых он будто бы играл на сцене в прошлой жизни. Прошлая жизнь была давно, еще до войны, о ней никто не знал, даже Фрося. Тогда Колька был Николаем, актером, семьянином, любящим мужем и отцом двух девчушек. Семьи не стало под Псковом во взорванном эшелоне, а Николай бился за Сталинград и не знал пока, что еще выживет в этом ужасе, и не ведал, что уже умер вместе с женой и детьми.
Кольку Фрося тоже не понимала, не жалела его, стыдилась такого соседства. Зато остальные жильцы были нормальными: и Тамарка с ее бесконечной, странной клиентурой и беспрерывно стучащей машинкой, и штукатуры Нина с Петром, и их мальчишки: одинаковые, рыжие, чумазые, бойкие, голосистые, и почтальонша – Вера Ивановна, всегда оставляющая для Фроси к праздникам лучшие открытки. У дворничихи много друзей, а родственников и того больше, им приятно получать весточки.
Вот и все. Хотя нет. Есть ведь еще новый муж Томочки, личность загадочная и неуловимая, все, что известно о нем Фросе – фамилия, хотя в данном случае – это уже кое-что. Фамилия у него Фельдман. Тамарке письма приходят от него, Фросе почтальонша показывала. Каждую неделю конверт от Фельдмана М.А. Бедная малышка Манечка! Угораздило же ее мамашу влюбиться в какого-то Фельдмана, хорошо хоть додумалась девку на себя записать, чтоб той всю жизнь не мучиться. Кравцова куда лучше, чем Фельдман. Пусть хоть по этой части у ребенка все в порядке будет, она ведь еще совсем крошка. Зинка, вон, с ней без продыха возится.
Зинка возится. Маша мало спит, мало ест и много плачет. Ее не развлекают погремушки, не утешают колыбельные и даже деревянные лошадки уже не радуют.
– Отдай ребенка матери, надорвешься ведь, – Галина говорит неожиданно мягко, сочувственно. За прошедший с Зинаидиного провала год она смирилась с нежеланием дочери посвятить себя музыке.
– Тамаре завтра заказ сдавать.
– А тебе завтра к станку ни свет ни заря. Сдалась тебе эта фабрика! Зин, ну ладно, забудем о музыке. Не хочешь, как хочешь. Давай займемся чем-нибудь серьезным.
– По-твоему работать на фабрике – это несерьезно?
– Не в этом дело.
– И в этом тоже.
– Зиночка, я хочу помочь.
– Купи мне скрипку.
Переспросить Галина боится. Скрипка появляется на следующий же день, лежит на диване в футляре рядом с орущей Манечкой.
– Зин, уйми девку, а? Ну, хоть часок поспать после смены, – заглядывает в комнату дядя Петя – штукатур.
Зинка вынимает из футляра скрипку, привычно прижимает инструмент подбородком к плечу, взмахивает смычком, и… плач прекращается.
– Зина! – вопит дядя Петя. – Я спать хочу! Машка заглохла, так ты бренчать удумала. Совесть есть?!
Скрипка послушно смолкает, ребенок открывает рот. Дядя Петя влетает в комнату, хватает Манечку, баюкает, тискает, трясет над ней погремушкой, Маша рыдает, не умолкая, Зина берет инструмент…
– Ладно, играй, – вздыхает дядя Петя и косится задумчиво на моментально затихшую девочку, – ну надо же, меломанша какая!
С тех пор Зина играла часто, иногда пыталась схитрить, заводила пластинки матери с записями Стерна, Фури, других великих скрипачей (неоценимая польза первого замужества Тамары), Маша молчала не больше пятнадцати минут, требовала живого исполнения. За одним из таких импровизированных выступлений и застал Зинку тот самый Боб, который шел к портнихе, ошибся дверью и одним своим появлением каким-то непостижимым образом сумел настолько внезапно и сильно вскружить этой играющей на скрипке девушке голову, что превращение ее в женщину произошло буквально через три дня под звуки стучащей машинки, ругани, как всегда, не выспавшегося из-за постоянного шума дяди Пети, пьяные песни Кольки, осуждающее ворчание Фроси и мерное сопение Маши, спящей рядом с непосредственным местом действия в коляске, добытой где-то по случаю приятелями таинственного Фельдмана.
Разочаровалась Зинаида в набриолиненном Бобе так же внезапно, как и воспылала к нему. Стоило юноше несколько недель спустя, недовольно скривившись, взглянуть на захныкавшую Машу и сказать почти презрительно: «Да убери ты ее отсюда, чего с младенцем возишься?» – как очарование спало, будто пелена. Вместо уверенного в себе, модного стиляги перед Зиной очутился жалкий воробышек с хлипкой, впалой, нетронутой волосами грудкой, маленькими, юркими, хитрыми, бегающими глазками и высокомерным, совершенно обнаженным эгоизмом. И единственное, что она теперь ощущала, было чувство внезапного, оглушительного безграничного стыда. Не за себя, за него. Боб испарился из Зининой жизни столь же молниеносно, как и возник, не оставив, слава богу и Тамариной спринцовке, после своего пребывания никаких последствий, за исключением налета брезгливости, который Зина еще долго пыталась оттирать в общем душе дважды в день, выслушивая все, что думают соседи о ее единоличном владении ванной.
Вместе со стилягой Бобом из Зининой жизни стал и уходить джаз и мечты о платье с воланами. Машу пугало надрывное звучание саксофона, раздражал рок-н-ролл и возбуждал буги-вуги. Пришлось вернуться к классике и заполнить Шопеном и Штраусом подоконник Тамариной комнаты.
– Он говорит: «Я умнею!» – Тамарины щеки пылают, глаза горят живым блеском, она стоит на коленях перед матрасом, водит мелом по разложенному на нем куску материи.
– Кто? – Зина пытается ухищрениями впихнуть в девятимесячную Машу хоть сколько-нибудь чайных ложек каши.
– Миша. Он говорит, что джаз – это, конечно, замечательно, но классика есть классика, и каждый уважающий себя человек…
– Погоди! Как это он тебе говорит? Он же не приезжал, Фельдман твой, и Машку не видел, коляску, и ту с оказией передал.
– Вот так, – Тамара вытягивает из-под матраса внушительную пачку писем. – Так и общаемся. – Она роется в ворохе бумаг, вынимает один из конвертов: – Ага, нашла. Слушай! «Без музыки жизнь была бы ошибкой, музыка – самый сильный мир магии». Здорово сказал, правда?
– Здорово, – соглашается Зинка. О том, что первым это произнес Ницше, она Тамаре не сообщает, но чувствует, что знакомство с загадочным мужем соседки, которого она до сих пор еще не видела, стало для нее теперь еще более притягательным. А вместе с тем личность этого человека теперь из совершенно загадочной превратилась в определенно любопытную.
– Ох, Зинаида, какая же я счастливая! – Тамара мечтательно прижимает к груди письмо.
– Ты? – Зина не может сдержать иронии. – Ешь, Маня! Давай-давай! А то вместо Бетховена будет тебе Бах. Да-да, бах-бах, и не на скрипке, а по попе.
– Я, конечно! Ведь у меня же самое главное в жизни есть.
– Это что же?
– Ты даешь! Любовь, конечно!
– Мама говорит: «Главное – здоровье!»
– Тю-ю-ю… Да я здорова, как бык.
Здоровая, как бык, Тамара через год попадет под машину. Умереть – не умрет, но и жить не останется: превратится в овощ, лежащий на кровати и изредка выполняющий команду: «Ешь, Тома! Давай-давай!» Зинка опять будет плакать какими-то смешанными, бесконечными слезами: горькими, жалостливыми, злыми и безысходными. А потом они кончатся и, как всегда, наступит облегчение, и забрезжит надежда, и приоткроется дверь, над которой кто-то повесил табличку с надписью «выход».
6
Славочка!
Пути господни неисповедимы, тебе ли не знать? Боюсь, чаяния мои и попытки написать что-либо действительно заслуживающее высокой оценки научного сообщества пока не слишком близки к какому бы то ни было успеху. В последнее время я даже начала сомневаться в целесообразности своих изысканий. Все же душа человеческая скрывает в себе невероятное количество страстей столь непостижимых по своей сути, что все старания выявить определенную причинно-следственную связь между характерами людей и их поступками могут оказаться затеей не только архисложной, но и совершенно невозможной. Меня, признаюсь, даже посетила мысль примкнуть к бихевиористам. Разве не заманчиво объяснять поведение людей исключительно рефлексами, сформировавшимися под влиянием внешних стимулов, и не утруждать себя погружением в психоанализ? Я бы, наверное, так и сделала, если бы не столкнулась с необъяснимым для меня пока противоречием человеческой натуры. Представь себе, моя милая, что люди, погруженные в одни и те же обстоятельства с приблизительно одинаковыми условиями существования, могут реагировать совершенно по-разному на возникшие внезапно жизненные ситуации. Причем реакцию эту заранее предугадать подчас оказывается гораздо труднее, чем ты можешь себе вообразить. Наши суждения о людях довольно спорны, мы руководствуемся в своих выводах об окружающих, как первым впечатлением, так и тесным, каждодневным общением. И, как ни странно, зачастую тот, кто казался нам отзывчивым, добрым, чутким, старается отстраниться от произошедшей рядом трагедии, а тот, кто был равнодушен и эгоистичен в мелочах, оказывает неоценимую, безвозмездную помощь.
Взрослые люди, всем интересующиеся и по-соседски вникающие во все детали чужой жизни, смакующие по кухням подробности любовных историй, отвратительных сцен и пустых, мелочных ссор и считающие себя при этом единой большой семьей, не забывая лишний раз напоминать друг другу об этом, легко отказываются от одного из своих ближних, оставляя его один на один с произошедшим несчастьем. А маленькая, невзрачная девочка, тратящая впустую свои лучшие годы на совершенно нелепую для нее заводскую работу, провозгласившая смыслом жизни наиглупейшую войну с собственной матерью, неожиданно для меня превратила эти свойственные многим проявления юношеского максимализма в положительные стороны характера. Работа оказалась действительно необходимой, война, как мне видится, вскоре окончится полной и безоговорочной капитуляцией противника, а девочка эта, которую я уже и не считаю себя вправе так называть, взвалила на свои плечи заботу о маленькой девочке, парализованной женщине и, по-моему, еще об одном человеке (об этом как-нибудь в другой раз). И сделала она это так легко, непринужденно, нисколько не выставляя напоказ свой действительно благородный поступок, что всем нам остается лишь молча восхищаться и признавать, что мы и мизинца ее не стоим. Хотя что я говорю? Не думаю, что все эти хождения по инстанциям, разговоры с чиновниками, оформление опекунства, бюрократическая возня дались моей героине просто. А между тем, моя дорогая, ей всего девятнадцать. Могли ли мы с тобой в таком возрасте мечтать о подобной силе духа?
Целую тебя, моя милая. Я.
7
– Ты не представляешь, как я жду перераспределения, – Нэнси выпрыгивает за Алиной из автобуса, – осточертело здесь все.
– Правда? Мне казалось, тебе-то как раз нравится вся эта романтика.
Девушки не спеша направляются к своей палатке, после душного дня жара немного спала, можно снять с головы надоевшую, словно приклеенную к ней, бейсболку, а с ног – пыльные, намокшие от пота кроссовки и пройтись по неостывшему до конца, но все же уже не обжигающему песку.
– Все эти лозунги: «Ваш реальный шанс изменить мир! Очевидная помощь людям!» – бред, да и только.
– Разве? – Даже Алина видит очевидную пользу в деятельности Корпуса мира.
– Конечно! Что мы делаем, а? Раздаем воду, резинки и улыбаемся. И зачем, спрашивается, я заканчивала колледж, зачем не спала ночами, учила все эти je suis, tu es, il est[3], зачем ходила на курсы первой помощи? Я хочу реальной работы. Слушай, может, ты меня научишь русскому, а? Потом махнем вместе в твою страну. Там, я слышала, воду раздавать не надо, действуют образовательные программы и…
– И самая необходимая населению Якутии вещь – английский язык.
– Зря ты. Надо думать о том, что дальше. Осталось всего четырнадцать месяцев.
– Всего!
– Да ты не успеешь оглянуться, как…
«Как сдохну, если задержусь здесь еще хотя бы на месяц. Угораздило меня подписать этот злосчастный контракт. Да, я американка, но что с того? Из никому не известной, заурядной москвички превратилась в жительницу Северной Каролины, которую даже не смогу без промедления отыскать на карте США. И в чем теперь мои преимущества? Как превратиться в Жаклин Кеннеди? Где искать молодого сенатора с однозначным будущим президента? Боже! О чем я думаю! Сдались мне все эти сенаторы и президенты. К тому же говорят, будто Джеки действительно любила своего мужа».
– На тебя сегодня большой спрос. – Нэнси неожиданно пихает Алину локтем, возвращая подругу в реальность.
– Что?
– Смотри! Какая-то женщина недалеко от нашей палатки явно ждет кого-то. Я ее не знаю. Ой, да она тебе машет.
Алина замирает. Она деревенеет, или леденеет, или рассыпается на тысячи маленьких осколков. Алина растеряна, опустошена, раздавлена. Она похожа на поезд, в котором кто-то внезапно дернул стоп-кран, и все пассажиры (внутренности, мысли, слова) попадали со своих полок. Алина ошарашена, удивлена, рассержена. Алина не может понять, как и зачем оказалась здесь та, которую меньше всего она хотела бы видеть, слышать и знать. Алина стоит как вкопанная, а нежданная гостья уже подбежала, затормошила, зацеловала, затараторила:
– Не ждала, правда? Я как снег на голову. Ты что, не рада? Расскажи быстренько своей подруге нашу поговорку про татарина. Ладно, можешь не рассказывать. А то всю историю России излагать придется. А я тут жду и жду. Долго же вы, однако, миссионерничаете. Где были? Что видели? Хотя зачем спрашиваю, все равно не запомню. – И она заливисто смеется своим серебристым смехом, встряхивает копной густых, светлых волос, закидывает лебединую шею, которую Алине хочется сжать изо всех сил и держать крепко до тех пор, пока смех не превратится в сдавленные хрипы.
– Что ты здесь делаешь? – К Алине возвращается дар речи.
– Учитывая количество километров, которое я пропахала от Яунде на этой колымаге, – гостья небрежно кивает на стоящий неподалеку заметно поржавевший джип, – я вполне могла бы рассчитывать на более любезный прием.








