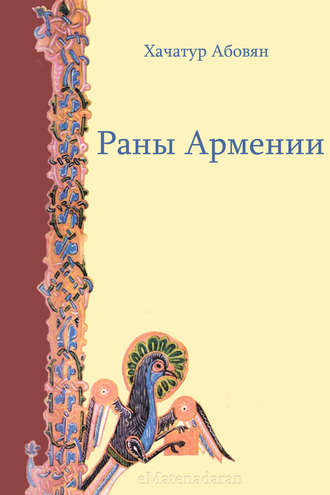 полная версия
полная версияРаны Армении
Ты шипы сажал, а вырастали розы; камня касался – камень одушевлялся. Одна была у тебя душа, но у тысячи бедняков была она в сердце; одно было у тебя дыхание, но у тысячи бедняков оно из уст выходило. Одно было у тебя имя, – но на весь свет оно славилось. Две было у тебя руки, – одна милостыню раздавала, другая людские слезы утирала. Кому сказал ты обидное слово, – что так проклял он меня? Перед кем захлопнул дверь, – что он такую беду на меня накликал? Кого ты видел простертым и мимо прошел, – что напророчил он плач твоей матери?
Чье молоко ты пил, – что оно желчью для тебя обратилось? У какой матери на руках возрос? – почему она день и ночь не благословляла тебя? У какой матери на коленях спал – почему же она, любуясь на потный лобик твой, тысячу раз не обращала взор к небу, не лила слез на лицо твое и не сказала грешными устами своими: – Велика слава твоя, господь создатель! Ты послал, ты и сохрани, жизнь мою возьми, к его жизни прибавь, упаси его от напасти, глаза мои выколи! Меч ли должен сразить его – пусть сперва мне в сердце вонзится. Огонь ли должен сжечь, пусть меня испепелит. Пусть глаза мои вытекут, чтоб его глазам не болеть. Боже, царь небесный, пошли только, чтоб он окреп, вырос, достиг своего желания!
Хлеба у меня не будет, – пойду по домам побираться, а его прокормлю. Голову продам, а не допущу, чтоб нуждался он в чужой помощи. Лишь бы, когда я умру, он посыпал землей на лицо мое, закрыл бы мне глаза, отслужил бы панихиду на могиле, стал бы светочем и столпом очага моего, чтобы память обо мне не стерлась, дым из дома моего не прекращался, не убывал!
Агаси-джан, – вот дым мой подыматься перестал, пресекся; дом мой развалился, память обо мне стерлась, основа моя вверх дном перевернулась, звезда моя померкла, солнца толика моя давно закатилась, моя неба толика – обрушилась. Нет для меня зари утренней, не озаряется для меня восток, день для меня – ночь, ночь для меня – ад кромешный.
Давно стою я у могилы своей, – вырыла яму, тысячу раз входила – выходила, но, увы! – как примет меня земля, если я тебя не увидела? Как сомкнутся очи мои, если я на тебя не посмотрела? Обрету ли я покой в могиле, если уста мои еще к твоим не приникли, язык к языку, очи к очам, грудь к груди, юный ты мой, ненаглядный Агаси?
Как решится мой ангел приблизиться ко мне? Как не отсохнет рука, омывшая мое тело? Не онемеет язык, надо мной причитавший? Как останется на месте алтарь перед гробом моим? Как в огонь не обратится чаша, из которой за помин души моей отпивать будут? Как не станет пламенем тот ладан, которым будут кадить надо мной?
Если сын не стоит в головах у матери, как возможно ту мать похоронить? Если сын не оплакивает родительницу, как возможно ее земле предать? Если сын не освятит могилы материнской, как могут положить на нее плиту каменную?
Агаси-джан, Агаси, свет очей моих, Агаси! О как желала бы я хоть тень твою увидать и потом отдать душу, хоть только голос твой услышать – и закрыть глаза навеки; хоть к руке твоей губами прильнуть, – а потом и дух испустить.
Что за дни тогда были! – Ты льнул ко мне головкой, ручонки клал мне на грудь. Ходила я no – воду – тебя к спине своей привязывала. Ходила в поле – на плечо сажала, – одна рука во рту, другая тебя поддерживает. Сено косила – тебя в зыбку клала и пела, и качала. Собирала ли плоды, опять же тебя к спине привязывала. Хлеб изо рта вынимала и тебе давала. Плоды срывала с дерева – тебя ими баловала. Тысячу раз вставала за ночь, укрывала тебя, ласкала-нежила, возилась с тобою, слезы твои утирала, личико целовала, крестила, молилась на тебя или, взяв к себе и обняв, засыпала с тобою вместе.
Отец твой в темнице, – ноги в оковах. Назлу, полуживая, со смертью борется. Только я одна кое-как перебиваюсь, чтобы хоть раз еще подышать тобою, прильнуть головою к святой груди твоей и сказать тебе прости, – сказать прости и закрыть глаза, чтобы не видеть слез твоих, не слышать твоего плача.
Ах, Агаси, пропавший сын мой, светоч моей жизни! Неужто не вспоминаешь ты никогда бедную мать свою, не спрашиваешь, что с отцом твоим несчастным? А юная твоя Назлу! – она жаждет тебя, кличет. Едва откроет глаза – любовью к тебе сгорает; дышит – тебя вспоминает. Ангел стоит перед ней, одной ногой она уж в земле, крест под головой, саван сложен, ладан и свечи приготовлены. Глаза у нее ввалились, уста сомкнулись; язык не шевелится, не может имени твоего произнести. Нет у нее слез, чтоб сердце унять; нет больше сил, чтобы и меня не сжигать.
И как нога твоя по камням ступает, как смежает сон твои веки, когда думаешь ты о нашей медленной смерти? Ты голову там вымой, а здесь высуши. Хоть на часок один прилети, явись, предай свою мать земле, чтоб не было у тебя матери. Пусть в камень она обратится! А Назлу возьми с собою, – пусть хоть она живет тебе на утешение. Иди, ненаглядный мой, наслаждайся жизнью. Меня похорони, но Назлу не оставляй, не бросай ее. Кроме тебя никого у нее нет, – она тебе доверилась. Приезжай, спеши к ней, пока она еще дышит, увези ее, чтоб я мук ее не видела.
Как только увижу тебя, душу вам обоим отдам, а сама сойду в землю. Скажу вам, прости, скажу – «Идите! Похороните меня, а сами убегайте, уезжайте из этой страны нашей горестной, скройтесь отсюда и длшу несчастной матери поминайте».
И при чтении этого письма сто раз замирал он и вновь приходил в себя; снова начинал читать и сам себя приободрял. Наконец, сложил письмо, сунул за пазуху и погрузился в целое море дум.
Вечерняя прохлада уже сошла на землю, когда он открыл глаза. Снова занес он руку за пазуху, чтобы достать письмо матери и еще раз прочесть, но в руке его оказалось письмо от возлюбленной жены, от его Назлу. Мало он горевал! Вновь тысячи кинжалов вонзились ему в сердце. Растерянный, сам не свой, начал он читать.
Вот содержание ее письма.
«Ежели выну я сердце и вложу в это письмо, и ты его откроешь и увидишь, что тысяча шашек в сердце мое вонзилось, – поймешь ли ты, что твоя Назлу, бедная твоя Назлу, переживает, что с ней творится, – ты, хозяин моей головы, царь моей жизни, Агаси?
Какие горы загораживают тебе путь, какие реки пересекают дорогу, чья рука держит тебя и тянет назад, о моя слава и гордость, что ты так оставил меня в огне? Ад вокруг меня, а ты – в раю. Меня меч разит, а ты умываешь руки. Меня ты дьяволам отдал, а сам посреди ангелов блаженствуешь и даже лица не обратишь, не положишь меня в землю.
Агаси-джан, Агаси, неужто сердце твое стало камнем, неужто глаза твои перестали видеть цветы-кусты, неужто взора своего не обращаешь ты к небу, не видишь, какие черные тучи стоят перед тобой, какой огонь сверху на тебя сыплется? Не знаешь ты разве, бессердечный ты, бездушный, что это из уст моих – и огонь, и пламя, и дым, и туча, что это сердце мое их клубами выбрасывает, затмевает, застилает звезды небесные, засыпает, обугливает горы-ущелья земные?
Сто раз подходила я к краю могилы – и назад возвращалась. Сто раз с солнцем заходящим душу свою в путь отправляла, – но, увы! – понапрасну. Казалось мне на рассвете, что я уже в земле; я дышать не хотела, думала, лежу среди мертвых; не хотела головы поднять, но, услыхав голос матери твоей, горемычной твоей матери, опять открывала глаза и волосы под ноги ей расстилала, молила, чтоб убила она меня или хоть не вырывала бы из рук смерти, чтобы живьем меня не жгла, в уголь не обращала.
И опять, как увижу глаза ее потухшие, тело иссохшее, в щепку обратившееся, как увижу, что и она о тебе душою болеет, по тебе так горюет, по тебе, ненаглядный мой, – так и подумаю: ведь если и я умру, никто на свете ее не прокормит, если я погибну, тогда и ей одно останется – заживо в землю сойти или в воду броситься, утопиться.
Думала еще: на сожженное ее сердце от меня хоть немного прохладою веет; рядом со мною вдыхает она твой запах, вкус твой чует, и тоска ее по тебе хоть сколько-нибудь утоляется. А не будь меня – либо голод убьет ее, либо придется ей по камням скитаться, и будет она даже горсти земли, даже места священного лишена.
Что было мне делать? В какую воду броситься? Душа моя не мне принадлежит, не могла я вынуть ее и ей отдать – чтоб жила она и тебя увидела, взяла бы тебя за праведную твою руку, пришла бы ко мне на могилу, у меня в головах бы стала и промолвила:
«Агаси-джан, тут покоится твоя Назлу, этой земле принесла она себя в жертву». Молчала она при мне, не могла я узнать ее горя. А я и сама обратилась в щепку, мне белый свет опостылел, не могла я сидеть возле нее, не могла ее пот утереть, воды ей студеной подать. Я у себя на своей постели, вся в огне сгорала, она – на своей подушке. Я голову подымала, чтоб отдать богу душу, и видела, – ангел ее тоже кружит над ее головой. Я ахала, чтобы голос мой дошел до твоего слуха, а он до ее ушей доходил, ее сжигал, ее изводил.
Ах, пять месяцев так страдала, мучилась эта несчастная. Ни лекарства, ни иные средства врачебные не могли ее исцелить, – ни священник, ни бдение, ни молитвы, ни причастие.
В одно утро, – ах, да минет тот час и никогда не вернется! – открыла я глаза, хотела встать – то ли покрыть ей лицо, то ли на другое местечко ее переложить, – и словно дом на меня обрушился! Вижу: глаза ее обращены к небу, лицо к востоку, руки и грудь открыты – словно в последний свой час желала она упросить ангела своего повременить хоть не много, надеясь, – а вдруг вот сейчас ты откроешь дверь, и она еще раз увидит тебя, утолит свою тоску и тогда уж отдаст богу душу!
Припади к ее могиле, Агаси-джан! Эта могила – цена твоей крови. В ней свет очей твоих погребен. Коснись щекою земли, чтобы хоть через землю исполнилось заветное ее желание, чтоб через землю узнала она, что ты прибыл, и хоть е могиле бы успокоилась.
Ах, сколько мук она вынесла – и хоть бы когда-нибудь я голос ее слышала, хоть бы слово когда-нибудь она молвила, чтоб горе не так давило мне сердце, так не сушило, не испепеляло меня.
Когда она ахала, ее горячее дыхание касалось моего лица. Когда она плакала, эти слезы, ручьем струящиеся, только я одна и видела. Даже глаз она не открывала, головы не подымала, чтоб только нам в лицо друг другу не посмотреть, глазами не встретиться; не хотела, чтоб сердце мое унялось, чтобы плач ее успокоился, чтобы глаза свои я ей предоставила, чтобы сколько есть у нее слез, она мне бы их отдала, не проливала бы их на землю; чтобы сердце свое я вынула и ей отдала, а она бы мне – все свое горе, чтобы я целехоньким передала его сегодня тебе, как залог, что всегда, лишь взглянув на него, ты будешь думать о том, что твоя бедная, беспомощная Назлу от любви к тебе, от тоски по тебе сошла в могилу, что ты будешь помнить ее и если даже ангела встретишь, не прельстишься им, не положишь другой головы на подушку, где твоя родная Назлу дух испустила; не подставишь другой эту грудь, твою Назлу измучившую; не будешь говорить другой ласковых слов этим языком своим, в огонь превратившимся и спалившим твою Назлу.
Нет, Агаси-джан, если я мать тебе, – исполни, что говорю: каждый раз, как увидишь могилу Назлу, каждый раз, пробудившись и обратив взор к небу, или же зайдя в сад, поливая цветы, срывая плоды, – открывай грудь свою, поминай ее имя, плачь о ней! Нет деревца, не видавшего ее слез, нет камня, не коснувшегося ее груди, нет такого цветка и куста, что не гладил бы ей голову, не видел ее плача и вместе с ней не плакал, не обдавался чадом ее сердца, не завял бы, не засох, чтоб только горя ее не видеть и не слышать ее голоса.
Если сосал ты мою грудь и на руках моих вырос, – покуда есть дыхание в устах твоих, пока носят тебя твои ноги, приходи, о приходи сюда, Агаси-джан, стань на эту святую землю, меня тоже похорони, – а там бог с тобою!
Пока я жива, лучше шашку вонжу себе в сердце, лучше глаза себе выколю, но другую невестку я в дом не приму, для другой матерью не стану. Не хочу, не хочу, чтобы снова меня поздравляли. Она была светом очей моих, радостью моей жизни – и вот пропала, погибла.
Если нога другой ступит на землю, где она ступала, я не выдержу. Если и мир после нее в алмаз превратится – кто станет на него смотреть, кто на него польстится?
Когда умирала она, я так ее и напутствовала! – Иди, мучительница ты моя. Пока я дышу, Агаси твой красной повязкою не повяжется, руки хной не покрасит – давно его хну я по ветру пустила. На одну подушку клали вы головы – и почивать должны в одной земле.
И меня положите с собою, чтоб я и в могиле видела вашу любовь и на небе чувствовала ее, благословляла бы вас и своими детьми называла, чтобы взятый у бога залог таким же ему возвратила.
Я стою на краю могилы, я зову тебя, Агаси-джан. Я раскрыла объятия свои, по тебе тоскую, сердечный ты мой. Сама я землицы в горсть набрала – чтоб себе на лицо посыпать, родной ты мой, сама и саван сшила, – чтоб одели им меня, – Назлу и умереть за тебя рада! – и ладан, и свечи купила, и за требу деньги своими руками отдала, незабвенный ты мой. Служба, обедня, священник, чаша – мне уж не забота, голубь ты мой.
Тысячу раз кланялась я в ноги ангелу своему, просила его отойти – чтобы раз еще услышать твой голос этими оглохшими ушами, полюбоваться на красу твою этими глазами померкшими, еще хоть раз руку твою святую прижать к этой груди окаменелой. Раз лишь еще приникнуть к родному лицу твоему лицом своим посеревшим, душу эту сожженную, в пепел обратившуюся, всю истерзанную, и дыхание свое тебе отдать, Агаси-джан.
Неужто сердце твое так омертвело, одеревенело, что ты уже не любишь меня? Ах, что мне делать? Что сказать? Сердце мое через край переполнено, голоса моего не хватает, – ты далеко. Кто поможет нашему горю?..»
Несчастная женщина уже не в силах была сдержать себя. Свекровь подоспела, когда она лежала уже без движения, словно одеревеневшая. Взяла ее за руку, вся дрожащая, отвела домой и попросила деверя, чтобы тот перед отъездом дал записать какому-нибудь боголюбивому человеку и взял с собою вот это баяти, которое Назлу сама сочинила и каждый день пела, заливаясь слезами:
ПЛАЧ НАЗЛУНастала весна. На лугах – трава.По горам, по долам цветут дерева.Любовью к розе сыт соловей, —Я одна томлюсь по любви твоей, —Ах, томлюсь!Увижу ли камень – ты предо мной,На траву ль ступлю – я полна тобой.Твой сладкий вкус – в воде ключевой.Грустит обо мне цветок полевой, —Ах, грустит!Свет очей моих от плача погас,От вздохов и охов я извелась,Кому я скажу, как горю всяк час?А скажешь кому, – огорчишь как раз, —Ах, огорчишь!Не хочу я к небу взор обращать,Луну или солнце на помощь звать,Где сердце у них, чтоб горе понять?Ты, солнце мое, возвратись ко мне, —Ах, возвратись!Болит ли так же сердце твое?Еще ли ты помнишь имя мое?Иль только камни слышат меня,Но, ах, не могут утешить меня? —Ах, утешить!На лицо твое хоть раз поглядеть!За шею обнять, вдвоем посидеть!Потом отдала б я душу свою, —Мне сладко у ног твоих умереть, —Ах, умереть!Тебя я напрасно ищу, мой рай,Назлу свою горем не убивай,Поспеши ты к ней, раздружи с тоской,Схорони, а душу возьми с собой!Ах, с собой!7
О мой боголюбивый читатель, – камень и тот треснул бы от этих слов, не то, что человек, да и Агаси, сердце которого истерлось в порошок. Но глубока душа человека, а жила тонка – чем сильнее натягиваешь, тем тоньше становится – да вдруг и оборвется. В хорошие дни человек забывается. Заботы только треплют душу, но не скоро ее отнимают.
Видя как Агаси мучается и страдает, удалые памбакские парни-армяне сговорились между собою отправиться тайком за его женою и матерью, забрать их и доставить к нему, но умные люди отсоветовали, – бедного отца его, старика, в тюрьме разрезали бы тогда на куски. Они не один раз замечали, что Агаси что-то задумал, – видимо, хочет поехать на помощь отцу и матери, – следили за ним и возвращали обратно.
Так в страданиях провел он и эту зиму. Наконец наступила весна, все – и тюрки и армяне – отправились на кочевья. Агаси тоже ушел с ними.
Разбили шатры у горных потоков, на поросших цветами лугах и пустили скотину пастись в этот рай бессмертный.
В утренний час, когда, бывало, встаешь ото сна, облака и туман с тысячи горных вершин, смешавшись друг с другом, поднимались к небу, и одежда, и лица покрывались росой и дождевыми каплями.
Женщины оставались при коровах и буйволицах, доили их, готовили масло и сыр, а мужчины пасли скот в горах либо возили шерсть и масло на базар, продавали там и покупали, что нужно для дома.
Были у женщин и другие дела. Днем они пряли, ткали ковры, паласы, шали, – весело и простодушно проводили время.
Тут, разумеется, нечего было молодицам и девушкам ежиться и прятаться, как дома, закрывать лицо. Все – как в одной семье, в какое кочевье ни зайдешь – всюду щеки пылают, как розы, всюду такие глаза, что с ума сведут человека! Но могли ли быть иными лица, иными души на таком воздухе, с такой водой, когда дышишь ароматом таких цветов и зелени?
Известное дело, молодые парни со всякими ворами да разбойниками частенько ходили охотиться, иной раз на неделю и того больше, и возвращались с убитой или пойманной дичью, – тогда в каждом шатре пир бывал не хуже свадьбы. Вот когда гость бывал кстати! По неделям, по месяцам не отпускали.
Журчанье ручьев, рокот воды, шелест деревьев, щебет птиц, свирель пастушеская, блеяние ягнят и овец, мычание стад как будто говорило каждому: если хочешь рая, оставайся тут, живи, как они живут, с простым сердцем, с чистыми помыслами.
Нельзя сказать, чтоб перемена места не оказала действия своего на нашего Агаси, – камень – и тот бы размяк, огонь – и тот бы погас, не то что его сердце. Но над головой Агаси еще кружил злой дух, – а он, бедный, и не знал того.
Часто, когда спускался он с гор на кочевья, на него засматривались тысячи глаз. Особенно, как узнали его историю, все хотели любоваться на него, не могли на него надышаться. Всякий, кому предлагал он цветок, со слезами на глазах готов был вместо руки протянуть ему сердце, в самую душу тот цветок заложить и вдыхать его благоухание.
Всякий, у кого был лакомый кусок, сберегал его для Агаси. Кто ставил перед ним сливки, кто яичницу, один – жареного барашка, другой – оленину. Многие, пригласив его в гости, резали барашка или даже целого барана, лишь бы ему угодить.
Слыша его печали полное баяти, видя жалобный плач его и слезы, и стар и млад готовы были жизнью пожертвовать ради него.
Когда девушки, по несколько вместе, гуляли по склону горы, рвали цветы, украшали себе грудь и голову, сердце у него разрывалось, что нет здесь с ними его Назлу.
А вот у Мусы, у юного Мусы не было ни горюющей о нем Назлу, ни отца, томящегося в темнице, – была у него только молодая мать, собиравшаяся не сегодня-завтра подарить ему еще одну сестренку или братца.
Ростом он был с чинару, над губами уже обозначились усики. Когда темные кудри его развевались вокруг нежного лица, казалось, что это ангел машет крыльями.
Ему уже исполнилось шестнадцать лет, но он еще ни на чье лицо не косился.
Правда, иной раз, увидав покрывало или белый лачак, он терял голову, сердце его воспламенялось, глаза застилались слезою, ему хотелось броситься куда-нибудь в горы и ущелья, скрыться, исчезнуть, – но все проходило через несколько дней: глаза не видели – так и сердце успокаивалось.
Порою ему казалось, что его тянет куда-то наверх.
Веял ветер, распускались деревья, журчала вода и словно некий невидимый голос говорил ему:
– Спи, Муса-джан, я смежу тебе веки, во сне буду разговаривать с тобою, а когда ты проснешься, – исчезну. Время еще не приспело тебе найти свою суженую. Что тебе на роду написано, то и будет.
Когда он пробуждался, ему казалось, – ангелы вот-вот отлетели от него. Он не знал, что это любовь, что готова она уже потихоньку поселиться в его сердце.
Однажды, когда он спал таким образом под деревом, увидел он во сне, будто принесли ему чашу вина, подали и какое-то ангелоподобное существо, осенив лицо крыльями, тихонько промолвило:
– Муса-джан! Или испей эту чашу, или убей меня. Жизнь моя в твоих руках. Отца и матери нет у меня, а попала в когти к неверному. Наше кочевье – на карсской горе. Если в груди у тебя есть сердце, если любишь ты бога, придн, освободи меня. Не освободишь – в жизни радости не увидишь. Муса-джан, я ухожу, ты знаешь. Приди! Двадцать дней меня мучают, чтобы я приняла магометову веру. Но я не принимаю, я жду тебя. Мне во сне сказано было, что ты – мой избавитель.
Когда он открыл глаза, ему показалось, что все вокруг – деревья, трава, цветы – изливают дарующие бессмертье благоуханья. Луч солнца скользнул по его лицу и тихонько скрылся за горою. Он хотел что-то сказать – дыханье не вылетало из губ его, хотел встать – ноги и руки были бессильны. Когда же до слуха его долетели звуки дудки и свирели, он опять закрыл глаза.
Ах, если бы в тот миг юность не столь неодолимо им овладела, тогда бы любовь не так могуче его одурманила!
Тьма спустилась па землю. Стало так черно, что ткни человеку пальцем в глаз, – не заметишь.
Тучи подняли головы и оторвались стопами от горных вершин. Мгла и туман застлали горы и ущелья. Казалось, тысячи драконов, разинув пасти, идут их поглотить.
Как начали здесь и там сверкать молнии, горцы сразу смекнули, чем это пахнет. Погнали скот и овец в загон, сами взяли ружья и выпустили собак – они знали, что такая ночь – самое горячее время у всяких воров да разбойников и у диких зверей.
Как начали тучи палить из пушек, все тут побежали – давай бог ноги, все глаза позакрыли. Женщин и детей загнали в шатры. Свечи и всякий иной огонь потушили, – чтоб глаз хоть что-нибудь мог различить. Все взяли по куску хлеба, но и то сунули за кушак, не стали есть, – ждали, чем все это кончится, когда снова светло станет.
Пошел дождь с градом, небо и земля запылали. Молния так хлестала по маковкам гор, что они, казалось, готовы были на тысячу гязов уйти в глубь земную. Когда разверзала туча пушечное свое жерло, земля готова была на тысячу кусков разбиться и дух испустить. Огня не было, ничего нельзя было разглядеть, за бурей ничего не было слышно.
Агаси надрывался крича, – звал Мусу, но – да унесет вода его мать! – где он был? Мог ли он услышать? И что с ним такое стряслось, чтобы так вырваться и убежать?
Товарищи Агаси бросились в горы, в разные стороны, с опасностью для жизни, в ста местах стреляли из ружья, – но каков был их страх и ужас, когда они узнали, что вдобавок он ушел еще и без ружья! Агаси так и обмер.
Гроза прошла, молнии перестали сверкать, но все же была темнота. Где ж разыскать его?
Пока рассвело, прошло столько времени, что, как говорится, змеи родить успели.
Но кто смог бы передать, что пришлось им пережить, когда они увидели, что юный Муса плавает в крови, а трава и кусты кругом все повыворочены.
Огромных размеров гиена сидела у него на груди, левая рука Мусы была у нее в пасти. Они едва не вонзили шашки себе в грудь.
Когда они закричали и ахнули, юный богатырь открыл глаза и, увидев товарищей, мотнул головой, улыбнулся и сказал:
– Молодцы! Bo – время подоспели. Подойдите, вытащите-ка мою руку: нож больно глубоко взошел, и рука моя с ним, не могу сам вытащить, сил больше нет.
Чьи глаза увидят такую радость, какова была радость его товарищей? Они тотчас бросились, отшвырнули гиену, но когда Муса вызволил руку, оказалось, что она чуть ли не наполовину разжевана.
Целый час не отрывался Агаси от груди друга, – словно с того света к жизни вернулся.
И горцы, увидев храбрость молодого удальца, дивились и целую неделю потом об этом только и толковали…
Однако сон продолжал бежать от глаз Мусы, покой – из его сердца. Всходило солнце, а для него день угасал.
Угасал день, и возобновлялись его терзания.
Горы и ущелья превратились для него в ад. Днем и ночью, – ел ли он хлеб, пил ли он воду, видел ли свет или сны ночные, все сливалось в дивном образе, звавшем его.
Деревья ли шелестели, журчала ли вода, дул ли ветер, веяло ли прохладой, – он ничего не примечал, ничего не видел, кроме небесного лика своей возлюбленной.
Богатырь-Агаси, не допустивший бы и в смертный свой час, чтобы малейший волосок с места сдвинулся у кого-либо из товарищей, давно заметил, в каком беспокойстве душа Мусы; он давно приметил, что сердце, внимание, мысли покинули его любимца, что юноша не в себе, – но о причинах не догадывался. Знал он одно, что до той поры берег друга, как зеницу ока. А что теперь так сжигало, так испепеляло его, – понять не мог.
Он видел, что юный Муса, слыша девичий голос или видя образ девичий, терял голову, сходил с ума, – но думал, что разгорается в нем тот обычный первый огонь, что жжет и воспаляет сердце каждого молодого человека, едва он осмыслит свой возраст, когда кровь начинает кипеть, а горы и ущелья становятся для человека сазом и кяманчой, с ума его сводят, или же шашкой и ножом – и вонзаются ему в сердце.
Сколько раз бросался он на шею своему другу, плакал и умолял поведать ему свое горе, но, кроме слез, ничего не видел, ничего не слыхал, кроме плача.

