
Полная версия
Я буду любить тебя вечно (сборник)
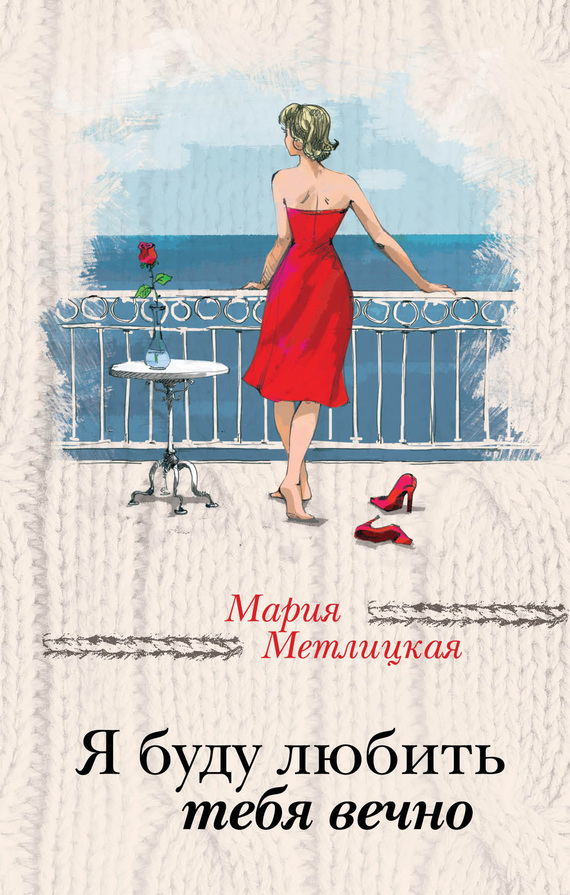
Мария Метлицкая
Я буду любить тебя вечно (сборник)
© Метлицкая М., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Я буду любить тебя вечно
Лето семьдесят второго выдалось чудовищно жарким. Даже не просто жарким, а удушающим, в Подмосковье горели торфяники. Москва задыхалась, больницы не справлялись с потоком несчастных сердечников, которым зачастую просто не успевали оказывать помощь – прямо из приемного покоя они попадали в больничный морг.
Но Милочка от жары не страдала: в ее, точнее их с мужем, квартире мерно гудел кондиционер – редкая, почти неизвестная по тогдашним временам вещь. Муж, привыкший, казалось бы, к жизни в жаркой стране, переносил московскую жару на удивление плохо, поэтому и привезли из далекого Баку это громоздкое, но необходимое приспособление.
Да и плотные шторы на окнах были нелишними.
Обычно Милочка просыпалась к полудню. Долго лежала с закрытыми глазами, словно не хотела смотреть на происходящее вокруг. Впрочем, ничего и не происходило – в квартире было оглушительно тихо. Муж давно был на службе, а домработница Зина ходила по дому босиком – не дай бог потревожить хозяйку! Деревенская Зина была непроста – горничные, водители, слесаря и прочий персонал, обслуживающий дипломатов, был «при погонах». А по-другому и быть не могло.
Милочка припомнила, какой сегодня день: четверг! Значит, вредоносной Зинки сегодня не будет. Да и слава богу. Кофе она себе сварит, справится. А вечером они с мужем идут на прием, там и поужинают. Впрочем, проблемы питания ее не волновали – сама, как говорится, не едок, а муж почти все вечера по ресторанам. Он так привык еще с холостяцких времен. А в холостяках ее драгоценный супруг ходил много лет. Да не просто в холостяках – женихом он был завидным!
Подумав о нем, о своем благоверном, Милочка громко вздохнула. Вот перевернуться бы на другой бок, закрыть покрепче глаза и… Вставать не хотелось. Потому что знала – сегодня (и завтра, и послезавтра) все будет абсолютно одинаково – утро, день, вечер, ночь. До оскомины на зубах, до тошноты. Ничего нового не случится – сценарий ее жизни был расписан и утвержден – мужем, судьбой и привычками. Значит, нового ждать не приходилось. А старое было неинтересным.
И все-таки Милочка встала – начинала болеть голова, а это означало, что срочно необходимо выпить кофе – крепкого, сладкого, со знакомой и любимой горчинкой. К хорошему кофе ее приучил муж – сам большой знаток и любитель. Восточный человек, это понятно. Кофе ему доставляли с родины – тот, что продавался в магазинах столицы (если, кстати, еще и продавался!), он не признавал.
В квартире было прохладно и даже холодновато. Жужжал кондиционер. Милочка поежилась, накинула теплый халат, поставила варить кофе и подошла к окну. Распахнув шторы, открыла окно. В ту же минуту в квартиру ворвался шум, запах и жар улицы. Окно она тут же захлопнула – как надоела эта жара! Ей захотелось зимы – морозной, белоснежной, свежей и ароматной от запаха хвои.
Кофе она выпила с удовольствием. А вот есть не стала, открыв высоченный «Розенлев», глянула туда и тут же захлопнула. Ничего не хотелось – ни копченой колбасы, ни черной икры, ни французского сыра.
Выпив кофе, пошла в ванную и долго разглядывала себя в огромное зеркало, висящее над голубой раковиной. Потом открыла баночку с кремом – французским, дорогущим. С удовольствием вдохнула его запах – земляника и мандарин.
Потом не спеша переместилась в гостиную и прилегла на диван, рядом с которым, на мраморном столике, стоял телефон. Пару минут Милочка смотрела на него, а потом набрала номер. На том конце провода раздался хрипловатый и вялый голос.
– Это я, – проговорила Милочка. – Ну как дела?
В общем, начинался день. Ее день – обычный и похожий на все остальные.
Устроившись поудобнее, она принялась слушать подругу. Хотя какую подругу? Подруг у нее не было. Так, приятельницы.
Не то чтобы это было ей интересно. Просто… Это тоже было привычкой. Надо же было как-то начать наконец этот день. Иначе… Иначе можно было рехнуться.
* * *Свое детство и отрочество Милочка вспоминать не любила – да и что там была за радость! Все было тускло, уныло, тоскливо. Так, что возненавидела она ту жизнь навсегда.
Комнатка в бараке в Орехове-Зуеве. Комбинат, где работала мать. Вся жизнь поселка крутилась вокруг комбината – камволки, как называли его местные. Шелкопрядное производство братьев Морозовых после революции переродилось в камвольный комбинат. Рабочих селили в бараки, оставшиеся еще с тех дальних времен. Удобств не было – туалет на улице, вода из колонки, а готовили на газовых плитках, стоящих в коммунальных кухнях, периодически меняя баллоны.
Ад – так называла свою молодость Милочка, но только про себя. В той новой жизни, к которой она так стремилась и куда, собственно, и попала, про ее прошлое никто не знал. Той жизни она стыдилась.
Мать работала на камволке – тяжело, сменами. Приползала усталая, с потухшими глазами и серым от пыли лицом. На хозяйстве была бабка Нюра, тетка матери, приехавшая из деревни. Вызвали ее для дела – растить девочку Милочку.
Отца своего Милочка не знала и не видела никогда – мать отмалчивалась, а вредная бабка поджимала губы и выдавала всегда одно и то же: «Сволочь он. Сволочь как есть. И чего про него говорить?»
В детстве Милочка мечтала – вырастет, поедет в Москву и найдет отца. Папу. Папочку. Он, конечно же, ей страшно обрадуется и умилится, что они похожи: ах, какая выросла девочка! Какая красавица – гордость отца. Он, ее папочка, будет, конечно же, известный и очень богатый – например, артист кино или театра. Большого – других театров Милочка и не знала. Или он может оказаться известным футболистом – они тоже богатые. Или писателем. Какая разница? Главное – что он есть.
Конечно, папочка оставит ее у себя. Никаких сомнений. В большой, нет – в огромной квартире с видом на Кремль. Ну или на Москву-реку. Там будет блестящий паркет, по которому она, Милочка, будет плавно скользить как балерина. У отца будет много вкусной еды – торты, пирожные, шоколадные конфеты. Конечно, мороженое – разноцветное: розовое – фруктовое, белое – сливочное и коричневое – шоколадное. Ешь сколько хочешь, никто слова не скажет.
К нему будут приходить красивые и нарядные гости – актеры, писатели, музыканты. Может быть, даже Майя Плисецкая. Или Сергей Бондарчук. И все они станут, конечно же, восхищаться красавицей Милочкой. А папа будет очень доволен!
Мечты, мечты… Но Милочка верила.
Бабка Нюра целый день торчала на кухне – цапалась с соседками, крутилась у плиты, сплетничала. А после обеда выходила во двор.
Двор был грязным, захламленным старым, ненужным барахлом: колченогими табуретками, поломанными игрушками, сдутыми и рваными футбольными мячами, окурками, огрызками, шелухой от семечек, ржавыми консервными банками и обрывками газет. И никому не приходило в голову его подмести или хотя бы собрать мусор.
Женщины – в основном старые, молодые были на работе – сидели на лавочке, сбитой Восьмого марта, в Международный женский день, добродушными по случаю праздника мужиками. Правда, это было давно, еще до рождения Милочки. Теперь лавка покосилась и почернела, но на повторный подвиг мужики так и не сподобились, как бабы их ни упрашивали.
На улице женщины отдыхали – приглядывали за детьми, щелкали семечки, поносили мужей и сплетничали. Это и было их основным развлечением в тяжелой, горькой и постылой жизни.
Летом во дворе столбом стояла пыль, но никому и в голову не приходило включить шланг и прибить ее водой.
Конечно же, мужики пили. И пили горько, с размахом. Напивались с зарплаты и аванса. В эти «священные» дни многие жены торопились встретить мужей у проходной – а вдруг не успеет пропить? Многие соседи сидели. Бывали и драки – между супругами, соседями, детьми.
Летом во дворе стояли тазы со стиркой – в бараках нечем было дышать. Во дворе стирали, варили варенье, вынеся из дома керогаз и кастрюли. Тогда в августе и сентябре по двору плыл сладкий запах ягод и фруктов.
На веревках полоскалось от ветра белье – мальчишки, конечно, попадали в него мячом, а женщины с криком бросались за ними.
Милочка ни с кем не дружила. Во двор почти не выходила – зачем? Слушать крики детишек и их заполошных мамаш?
Разборы, скандалы между соседями? Противно. Она ненавидела свой двор, своих соседей, свой городок. Ненавидела все – отвратные запахи дешевой еды – вареной капусты, горелого молока. Звуки рыдающей гармони, пьяные выкрики, громкие проклятия, покосившиеся темные бараки, пыльные и чахлые редкие деревца. Серую от пыли, вытоптанную траву.
Она ненавидела все. «Папочка, папочка! – шептала она по ночам. – Пожалуйста, забери меня отсюда! Очень тебя прошу!»
Спасало то, что бабка Нюра в комнате почти не бывала – то торчала на кухне, то во дворе. Почти до вечера Милочка была хозяйкой в их узенькой темной комнатке – две кровати, старая раскладушка, со скрипом разбирающаяся только перед сном, иначе в комнате было бы не пройти. На раскладушке спала мать.
Мать возвращалась с работы, и садились ужинать – вечерять, как говорила деревенская Нюра. При этих словах Милочка морщила нос и закатывала глаза.
Нюра обижалась и жаловалась матери. Измученная мать махала рукой: дайте в себя прийти, господи!
От усталости она начинала плакать, но Милочке было ее не жалко. Сама виновата – не смогла удержать отца. Папочку.
На ужин обычно была каша – перловая или пшенная. Или картошка. После зарплаты – с куском колбасы или рыбы. Рыба воняла, от жирной колбасы болел живот. Иногда «подавались» макароны – серые, клейкие. Но – посыпанные сахаром. Их Милочка ела. Отодвинув тарелку с недоеденной кашей, она резко вставала со стула.
– Не нравится, барышня? – Бабка Нюра сверлила ее злобным взглядом. – Ишь, королева!
– Оставь ее, – коротко бросала мать. – Не хочет, да бог с ней! Проголодается – холодное съест.
Но Милочка не ела – на десять копеек покупала себе булочку с маком. Запивала газировкой из автомата. Да пропадите вы пропадом с вашими кашами!
Пенсию свою бабка Нюра копила, не отдавала. Оплачивала только «квартирные»: «Я у вас тут не за просто так – я на законных!» Но мать молчала – тетка и стирала, и гладила, и толкалась в очередях за продуктами. И как-никак, а готовила. Называла она Милочку Люськой. Так и орала в окно: «Люська, ты где?» Милочка злилась. Имя «Люська» казалось ей простым, каким-то шалавистым – что это за Люська? То ли дело Милочка! Настаивала на Милочке, а вредная бабка смеялась: «Милочка? Да так в деревне коров кличут! Выдумала чего – Милочка!»
А однажды… Стерва эта старая навсегда перечеркнула светлые Милочкины мечты – недобро усмехнувшись и глядя ей в глаза, вдруг выдала:
– Папашу своего ждешь?
Милочка затаила дыхание.
– А ты не жди, девка! Сгинул твой папаша – тю-тю! В тюрьме подох. Собаке – собачья смерть!
– В тюрьме? – глухо спросила Милочка. – В какой тюрьме, баба Нюра?
– В какой, какой? В обныкновенной! Куда людей содят! Нет, не людей – убийц и воров! Вот и папаша твой – убийца!
– Почему? – еще тише спросила Милочка. – Почему он убийца?
– А я почем знаю? – разозлилась Нюра. – Брата своего укокошил! Вот и сел, сволочь такая!
Милочка медленно встала из-за стола и вышла из комнаты.
Бабку Нюру она теперь ненавидела.
И самым страшным было то, что в тот день навсегда рухнули светлые Милочкины мечты. Мечты о том, что отец, папа, папочка, заберет ее из этого ада и пригласит, поведет в новую счастливую жизнь.
Нюра умерла, когда Милочке было двенадцать. Мать горевала: во-первых – единственная и последняя родня, а во-вторых – помощница. У самой сил ни на что не было – камволка забирала все.
Но задышалось им с Милочкой после этого легче. Нюрины накопления нашлись через полгода, когда наконец собрались выкидывать старую кровать. Нычку увидела Милочка – грубый шов на обратной стороне матраса.
Вспороли легко – а там… Куча денег! Красная от возбуждения мать в который раз пересчитывала потертые купюры и не верила своему счастью: «Дочь, а мы ж теперь богачи!»
И принималась мечтать:
– Купим кровать – тебе, новую! А я уж посплю на твоей! Поедем в Москву и справим пальто – мне и тебе, а? А давай холодильник? – вскрикивала мать, улегшись в постель. – А, Милунь? Надоело уж за окно! И будем как люди! А может, – мать замирала, словно боялась это произнести, – может, на море? Как думаешь, дочь?
Милочка громко вздыхала и, не отвечая, переворачивалась на другой бок. А что изменится, господи? Ну пальто. Ну холодильник. Ну даже море! И там они будут как… Нищенки. Считать копейки, отказывать себе во всем. Обедать в душной столовке теми же щами. Жить в таком же бараке.
Потом мать начинала сетовать:
– А как мы будем без Нюры? Мы же с тобой совсем ни к чему не приспособленные!
Конечно, это была полная глупость, потому что зажили они без бабки Нюры хорошо. Не просто хорошо – отлично зажили! Правда, денег им теперь всегда не хватало, то есть кончались они моментально, спустя пару дней после зарплаты. Вести хозяйство мать с Милочкой не умели. Зато теперь они покупали себе все, что хотели, – кексы с изюмом, вафельные тортики, шоколадки, мороженое, докторскую колбасу и шпроты в масле – если удавалось достать. И еще – сгущенное молоко, Милочка его обожала.
Мать приходила с работы и, растерянно улыбаясь, выкладывала из сумки все эти вкусности. Так и ужинали – шпроты с хлебом и чай с тортиком. Красота! И никто больше не ворчал, не шипел, не ругал маму и не обзывал ее бестолковой неумехой, дурочкой и транжирой.
Мать, кстати, тоже словно освободилась от вечного бабкиного ворчания и скандалов («Я тута пашу на вас, а вы?»), сбросила с плеч тяжелый груз, стала улыбаться и даже изредка что-то напевать себе под нос. Правда, когда теперь она раскрывала кошелек, то сразу расстраивалась и бледнела.
– Как же так, Милочка? – удивлялась она. – И как мы дотянем до зарплаты?
Милочка беспечно махала рукой:
– С голоду не помрем! Как-нибудь, мам!
– Как-нибудь, – повторяла та и заметно грустнела.
С голоду, разумеется, не помирали – на картошку и макароны всегда хватало. Ели пустую картошку и смеялись.
– Вот она, расплата за удовольствие! – шутила мама. – Нет, все-таки Нюра была права: я жуткая неумеха и совсем безголовая!
– А ты мне такой нравишься, мам! – отвечала Милочка.
И мать улыбалась и молодела.
Без Нюры была свобода: гуляй – не хочу! Никто не заглядывал в тетрадки с уроками, никто не зудел за плечом. Не заставлял есть перловую кашу.
В пятнадцать лет Милочка поняла, что она красавица. Как поняла? Да очень просто – на нее обращали внимание, оборачивались. Сосед Пал Васильич при ее появлении громко крякал и сильно краснел, с испугом оглядываясь на свою суровую супружницу Галю. Галя сводила брови и грозила пальцем:
– Я тебе! Старый хрен! Ишь, разохотился! – И тут же начинала смеяться. – Ну посмотри, посмотри! Чё тебе еще остается? Только глазками твоими бесстыжими и лупать! А потомушта… Сам знаешь, почему!
Пал Васильич белел и быстро скрывался за своей дверью.
– От же старая кобелина! – теперь уже грустно вздыхала Галя. – Всю жизнь ведь… Никого, сволочь, не пропускал.
Одноклассники не давали Милочке проходу – подкладывали в портфель записки, оставляли в парте шоколадки или открытки, караулили ее у школы и торчали под ее окнами.
В девятом классе она увлеклась шитьем – девчонки передавали друг другу выкройки, срисованные из «Крестьянки», «Работницы», «Силуэта». Шить у нее получалось лучше всех в классе – даже вредная учительница труда ее хвалила: «Талант у тебя, Иванова! Просто талант!»
За тканями девчонки ездили в столицу. Иногда удавалось «урвать» что-нибудь из косметики: польскую помаду, ленинградскую тушь, лак для волос. А там заодно и гуляли – парк Горького, Сокольники, ВДНХ. Ели мороженое, пили сладкую воду.
Теперь Милочка, по словам матери, «была одета» – появились платья в горох и в полоску, пышные, на подкладке юбки, блузочки в талию. А уж талия у Милочки была будь здоров – всем на зависть!
Подводила только обувь – и дорого, и не достать.
– И в кого она такая? – удивлялись соседки. – Вон, Вера-то совсем обыкновенная! – Они провожали взглядом Милочкину мать. – А Милка у нее – высший класс!
Милочка разглядывала себя в зеркале.
– Да, ничего, – скромничала она.
Но «ничего» – это было не совсем то слово, которое было уместно. Была она хороша фантастически – карие, с рыжинкой глаза, изящный и тонкий носик, пухлые губы и нежная смугловатая кожа. Густые, мягкой волной, русые волосы, тонюсенькая талия и высокая, большая, не по годам, грудь. Ну и стройные, очень стройные и красивые, длинные ноги.
Училась Милочка средне – науки были ей неинтересны – ни точные, ни гуманитарные. Читать она не любила, к музыке была равнодушна. Увлечения девчонок стихами не понимала и не разделяла, считая все это полными глупостями. Она вообще ко всему была равнодушна. Ко всему и ко всем. О чем она мечтала? Да она бы и сама сформулировала это с трудом. О любви? Да как-то… Не очень. О хорошем муже, о детях? Нет, замуж ей не хотелось, дети раздражали. А, вот! Милочка мечтала житькрасиво. Безбедно, сытно, нарядно.
В красивой жизни она понимала немного – так, впечатления от иностранных фильмов, редких журналов, да, пожалуй, и все.
Но – знала точно – красивая жизнь есть! И кстати, где-то совсем рядом, недалеко. Скорее всего, в столице, в Москве. А это рукой подать! Только с умом надо к этому подойти. Вот тогда и получится.
Плюс – есть у нее кое-что поважнее семьи или там образования. У нее есть красота. А с этим богатством все достижимо, не правда ли? Особенно если вспомнить старые сказки, «Золушку» или там – Милочка задумывалась – что еще? В литературе она была не сильна.
Любила она, пожалуй, только мать – единственного близкого человека. Но и к матери относилась с легким презрением – скучно, тоскливо и даже страшно проживала та свою жизнь, в нищете, тяжелом труде, в вечном подсчете копеек, в вечном страхе – перед начальником цеха камволки, перед Нюрой, перед соседями. Даже от участкового Мишки, горького пьяницы, шарахалась. Спрашивается – почему? Что она такого сделала, чтоб бояться этого урода? Всех боялась, перед всеми заискивала.
Продавщица в молочном вечно подсовывала ей просроченный кефир. Обнаруживалось это только дома – там, в магазине, матери было неловко посмотреть на срок изготовления. Милочка пеняла ей, что она трусиха и растеряха, требовала вернуть брак обратно. Мать начинала плакать и отказывалась идти разбираться.
– Кого ты боишься? – негодовала дочь. – Эту тварь?
Милочке было пятнадцать, когда она не выдержала и сама отправилась в молочный. Подойдя к прилавку, со стуком шмякнула бутылку с кефиром и бросила пачку с творогом.
– Угощайся! – сказала она наглой и высокомерной продавщице.
Та, известная хамка, оторопела. Очередь замерла, а Милочка, прищурив глаза, повторила:
– Ну что же ты? Растерялась? Угощайся! Кефирчику выпей. Может, пронесет, а?
Продавщица засуетилась, покраснела как рак и заменила Милочке кефир и творог.
Милочка удовлетворенно кивнула и удовлетворенно добавила:
– Вот и правильно! Так и дальше делай! – И гордо, с достоинством удалилась под тихий шепот ошарашенной очереди.
С той поры мать никогда не приносила просроченные продукты.
И Гальку, вредную соседку, Милочка поставила «куда надо», та вечно придиралась к матери по всяким пустякам: то чайник забыла выключить, то свет в ванной оставила, то с ботинок в прихожей натекло, то с зонта накапало.
– Не нравится – убери! – цыкнула Милочка. – Возьми тряпку и убери! Весь день на кухне болтаешься, языком чешешь! А люди работают, если ты не заметила!
И вредная Галька заткнулась.
Мать удивлялась, умилялась и, как всегда, боялась.
– Милочка! Я понимаю, ты моя защитница и ты молодец. Но… все же, так грубо… Зачем портить с соседями отношения? Можно же было и как-то помягче…
– А если «помягче», как ты выражаешься, – фыркала Милочка, – тогда лови в супе плевки! Хамы ведь по-хорошему не понимают! Ты что, не заметила?
Милочка часто думала о том, что мать в молодости была симпатичной, да только всю жизнь в шкафу у нее висело два платья – летнее и на зиму.
– А мне больше не надо! – говорила она.
Не надо… Страшно-то как! Не то страшно, что платьев всего два, а то, чтоне надо. Милочка так не хотела. Да и вообще ей вся эта убогая, нищая, «паучья», скандальная, мелкая и грубая жизнь порядком поднадоела. Противно все это. Мышиная жизнь – не человеческая, а именно мышиная. И она, конечно же, этого избежит! Очень постарается избежать! И это у нее получится, поверьте.
После школы она устроилась на работу в регистратуру медсанчасти. Работа была сменная: день – утро, день – вечер. Отличный график. Да и работа не бей лежачего – найти в картотеке карту больного и, собрав их с десяток, разнести по кабинетам врачей. Правда, и платили копейки – но на чулки, сигареты, польскую тушь и помаду хватало. Матери она ни копейки не отдавала. Та была не слишком довольна, но молчала. Спорить с Милочкой, на чем-то настаивать? Да что вы, о чем?
В медсанчасти за Милочкой принялся ухаживать доктор Ваня – так его называли сотрудники. Был он парнем симпатичным и веселым, без конца травил анекдоты, на взгляд строгой Милочки – пошлые и несмешные.
Робея и краснея, пробовал пригласить на свидание. Милочка, осмотрев его в головы до пят и почти заморозив ледяным и презрительным взглядом, усмехнулась:
– И что?
Растерянный Ваня молчал.
– А дальше-то что? – повторила Милочка с еще большим презрением.
– В каком смысле? – наконец выдавил неудачливый кавалер.
– Да в прямом! – жестко ответила та. – Что ты, например, можешь мне предложить?
Ваня удрученно молчал, лихорадочно думая, чем бы удивить эту красивую и необычную девушку.
Понимая, что попадет в немилость, жалко пробормотал:
– Ну… В кино, например. Или в кафе! А хочешь – в Москву мотанем! А, Мил?
Милочка рассмеялась:
– В кино? На рваных креслах слушать, как впереди и сзади сношаются? Как катаются бутылки между рядов? Мат трехэтажный? Нет уж – уволь! – Она помолчала. – В кафе, говоришь? Тоже дело! Липкий стол, портвешок и пирожные с кислым кремом? И та же компания, что и в кино. Здорово, да? Ну просто мечта всей моей жизни! Ну, допустим – у нас все получится. Слюбимся, как говорила моя бабка Нюра. Ну а что потом?
Опустив глаза в пол, Ваня молчал.
– Так вот, про потом, – оживилась Милочка. – Соберем мы на свадьбу, предположим, хотя и трудно будет. Зарплата-то у тебя – сам понимаешь. На дешевое платье соберем, на дешевый костюм. На дешевые кольца. Сыграем свадьбу – все в той же вонючей «Ромашке». Все напьются, набьют друг другу морды, потом помирятся. Потом снова набьют – ну ты же знаешь, как это бывает. А потом, Ванечка… Потом мы переедем к тебе! Да-да, к тебе – в общежитие! Ко мне-то некуда – места нет, да и мама. А у тебя – комнатуха в шесть метров. Ни мебели – да и куда ее ставить? – ни люстры, ни тумбочки и ни шкафа. Где брать? Снова копить! И ждать – долго ждать, когда тебевыделят комнату! Не в общежитии, а в бараке – там-то будет своя! Своя, Вань! Возможно – побольше! Метров восемь или, допустим, десять.
А дальше? А дальше –всё! Ну и начнем мы копить – на шифоньер. На телевизор. На холодильник. На сапоги и пальто. На отпуск не хватит – какой уж тут отпуск? Ну мотанем к твоей родне в деревню – милое дело! А там – огород, хлев, дороги размыты, потому что дожди. Да! Ребеночек народится – куда ж без него? Так ведь положено, правда? Без него будут косо смотреть соседи, родня. Мне-то, Ваня, конечно же, наплевать… А тебе? Ну и дальше будем колотиться – в той же лачуге, в той же нищете. Только теперь – с ребенком.
Ты когда меня начнешь ненавидеть, Ваня? Молчишь? А ты подумай! Хорошо, я скажу сама. Я тебя – месяца через два после свадебки этой убогой. Ну а потом ты запьешь – здесь у нас по-другому и не бывает, потому что жизнь такая собачья, ты мне поверь! Все пьют, Вань! Оглянись! Ну и еще, – она недобро усмехнулась, – знаешь, в кого я превращусь? А, не знаешь! В склочную и мерзкую бабу. Как Лидка-санитарка. Как тетя Дуся – повариха. Как соседки мои и твои. А ты… Ты, Ваня, ты тоже… Брюхо наешь – обязательно, на картошке-то, а? Полысеешь. Озлишься. На все – на эту жизнь, на меня. Потому что тоже начнешь меня ненавидеть: ною, как пила. Придираюсь. Недовольна всем и всегда. Ты – меня, я – тебя… Такие дела. – Милочка замолчала и громко выдохнула. – Ну как, Вань? Хорошо?
Он, не глядя на нее, коротко мотнул головой:
– А по-другому, Мил? Не бывает?











